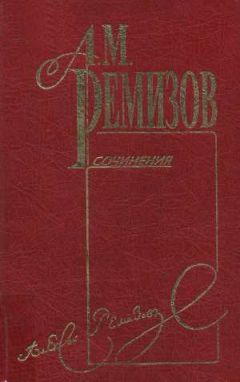Горнфельд не сразу ответил: разве он мог в чем-нибудь отказать Анне Марковне.
– Нам надо серое, – сказал он.
Я подумал: «о мужиках».
– Как Муйжель.
– Я о мужиках не умею, – сказал я.
И подумал: «хорошо, что мужики не читают наших рассказов о мужиках, то-то б было смеху!»
Улитка разговора перешла на другой предмет, как выражался Марлинский.
А я о своем – и до чего онаглел под свист «Бесовского действа»! вдруг, думаю я, у меня окажется свое серое, и я попал в «Русское Богатство»!
«Сатирикон» и «Нива» впереди – путь чист, а пока единственный мой благожелатель Александр Иванович Котылев. В последний раз принес мне пасхальный номер «Скетинг-ринг» с моей сказкой «Небо пало»12.
Я упомянул о Аверченке, о «Сатириконе».
– Помойная яма, с раздражением отозвался Котылев. Аверченко преемник Чехова? Да у Чехова душа, а у Аверченко…
Котылев был недоволен, что «Берестяной клуб» я отдал Аверченко.
За «Небо пало» я получил полтора рубля.
Ходила курица по улице, вязанка дров и просыпалась. Пошла курица к петуху:
– Небо пало! Небо пало!
– А тебе кто сказал?
– Сама видела, сама слышала.
Испугался петух.
И побежали они прочь со двора.
Бежали, бежали, наткнулись на зайца.
– Заяц, ты, заяц, небо пало!
– Тебе кто сказал?
– Сама видела, сама слышала.
Побежал и заяц.
Попался им волк.
– Волк, ты, волк, небо пало!
– Тебе кто сказал?
– Сама видела, сама слышала.
Побежали с волком.
Встретилась им лиса.
– Лиса, ты, лиса, небо пало!
– Тебе кто сказал?
– Сама видела, сама слышала.
Побежала и лиса.
Бежали они, бежали. Чем прытче бегут, тем страху больше, да в репную яму и попали.
Лежат в яме, стерпелись, есть охота.
Волк и говорит:
– Лиса, лиса! прочитай-ка имена: чье имя похуже, того мы и съедим.
– Лисицыно имя хорошо, – говорит лиса, – волково имя хорошо, зайцево хорошо и петухово хорошо, курицыно имя худое.
Взяли курицу и съели.
А лиса хитра:
не столько лиса ест, сколько под себя кишки подгребает.
Волк опять за свое:
– Лиса, лиса! прочитай-ка имена чье имя похуже, того мы и съедим.
Лисицыно имя хорошо, – говорит лиса, – волково имя хорошо, зайцево хорошо, петухово имя худое.
Взяли петуха и съели.
А лиса хитра.
не столько лиса ест, сколько под себя кишки подгребает.
Волк прожорлив, ему, серому, все мало.
– Лиса, лиса! прочитай-ка имена: чье имя похуже, того мы и съедим.
– Лисицыно имя хорошо, – говорит лиса, – волково хорошо, зайцево имя худое.
Взяли съели и зайца.
Съели зайца, не лежится волку:
давай ему еще чего полакомиться!
А лиса кишки лапкой из-под себя выгребает –
И так их сладко уписывает, так бы с кишками и самоё ее съел.
– Что ты ешь, лисица? – не вытерпел волк.
– Кишки свои… зубом да зубом… кишки вкусные.
Волк смотрел, смотрел, да как запустит зубы себе в брюхо – вырвал кишки –
да тут и околел.
– Что курица, что волк – с мозгами голова!
Облизывалась лиса, подъела все кушанье, выбралась из ямы и побежала в лес – хитра хитрящая.
Самое лето. Только утром еще ничего – в Москве перезванивают к водосвятию, в Петербурге музыка – парад или хоронят генерала, а с полдня накинется жара и до самого вечера морит.
Весь день мы провели в Куокале у Чуковского1. У них тесно, но все-таки Куокала не Петербург, возле дома не трубы газового завода, шумят деревья.
Корней Иванович, свертывая трубочкой губы, рассказывал о Репине – Репин пишет его портрет и питается сеном2. Мне это запомнилось – какой, значит, Чуковский знаменитый, и сено – я себе представил ем сено – в «сыром виде» без хлеба, без масла. Пили чай на балконе. Чуковский с умилением представлял, как говорят дети – у него сын Коля – и за детскими словами в горле у него булькало. Потом он составил словарь – детский язык.
А я о деньгах. Мне все равно, или я представляюсь, что мне все равно, но Серафиму Павловну тянет на волю. Как достать денег: много ль от Котылева, и все труднее. Чуковский обещал поговорить со Светловым – в «Ниве» лежит моя «Корявка».
Чуковский в своих критических фельетонах в «Понедельнике»3 у П. П. Пильского никогда обо мне ничего не писал, я для него «несуществующий писатель», но к моей судьбе у него полное сочувствие, и он всегда готов мне помочь. Отчего – не знаю. Или это тоже моя судьба? Мои благожелатели – Розанов, Шестов, Бердяев, а ведь в их книгах имени моего не существует.
Вечером вернулись в Петербург. На Финляндском вокзале я купил вечернюю «Биржевку». Развернул – и прямо мне в глаза жирным шрифтом заплавье «Писатель или списыватель?» В тексте мелькает мое имя, не А, а «г» – разобрать не могу, но чувствую, дело не о бесовских хвостах, вышучивание, а что-то не в шутку. Статья – вся страница. Подпись: Аякс, псевдоним А. А. Измайлова.4 Разберу дома.
И подумалось «Чуковский обо мне не напишет, а тут Измайлов – Александр Алексеевич Измайлов (1873–1921)», имя куда громче Корнея Чуковского, и с ним считаются – вечерняя «Биржевка»!
В заглавии «Писатель или списыватель» мне показалось что-то не совсем. Дома разобрал.
А. А. Измайлов уличает меня в плагиате. Приводятся параллельно два текста сказки «Небо пало»: мой из «Скетинг Ринга» и оригинал из сборника Н. Е. Ончукова. Читать глазами, как это принято, видимой разницы никакой. Ссылаясь на справедливый приговор читателей, который может быть только один, сказка списана, а выдана за свою,5Измайлов заканчивает торжественно, «как возможно терпеть в среде честных писателей подобного сочинителя, как г. Ремизов?6»
Для меня загадка: третий год печатает Котылев мои сказки, почему же только теперь Измайлов обратил внимание на мою воровскую природу, обличает публично и требует по справедливости возмездия?
Я пересмотрел все Котылевские листки, программы, приложения, до последнего номера «Скетинг Ринга» с моими сказками, и вдруг понял: везде под заглавием сказки, подзаголовок «народная сказка» и только под «Небо пало» никаких объяснений, непосредственно текст. Как это случилось, не могу придумать.
Стал я себя судить. А правда в этой сказке, говоря по-ученому амплификаций (распространение) и интерполяций (вставка)7 незначительно, но это ничего не значит, все по качеству матерьяла. Кому придет в голову в этой сказке, подписанной моим именем, видеть не народность и безо всяких объяснений.
Мне казалось все так ясно и мне не в чем упрекать себя и объясняться.
Я пошел в «Сатирикон».8
В редакции я застал много народу, но не успел ни с кем поздороваться, все вдруг поднялись и к выходу. И я остался один.
Аверченко сосредоточенно рассматривал какие-то полицейские бумаги.
– Аркадий Тимофеевич!
Он с удивлением посмотрел на меня и заговорил. Трудно понять, ко мне это или о полицейских бумагах, поминались «условия» и что «он никого не подозревает».
– Я пришел справиться о моей сказке «Берестяной клуб»: когда будет напечатана?
Об авансе я промолчал.
Аверченко прямо посмотрел на меня.
– Впредь до разъяснений ничего не могу сказать вам.
Я понял, жалко поклонился и вышел.
Пропал Чуковский. Вот когда так надо, а его и нет. Я еще хорохорюсь. Но замечаю: отчего-то все со мной говорят в сторону. Набор попавших на язык слов и не глядя мне в глаза. Так разговаривали приятели с Чичиковым после разоблачения Коробочкой.
В «Ниве» Светлов меня не принял. Я спросил секретаря о «Корявке».
Секретарь подумал – «Корявка»?
– Корней Чуковский передал.
Секретарь вышел к редактору.
Я жду. Входят все незнакомые «настоящие писатели». Если бы сейчас Чуковский. Чуковского Репин пишет!
– Никаких ваших рукописей у нас нет!9 – сказал секретарь и обратился к настоящему писателю. Не оглядываясь, я вышел. И у меня было чувство тех «просителей», кого не велено пускать.
Приходил Пришвин. Вздыбленный. Бубнит по-елецки. У Ончукова «Небо пало» его запись, в моей редакции сказка звучит отчетливее – рассказчику подвесили язык. Дело не в количестве слов, а в выборе слов – и одно-единственное может распутать и пустить в ход. При беглом чтении текстов можно и не заметить. Эти свои соображения по поводу обвинения меня в плагиате он изложил по-газетному – он сотрудник «Русских Ведомостей» – и отнес в «Речь»10 И. В. Гессену, уверенный напечатают. Но Гессен не принял его опровержение и печатать решительно отказался. А М. И. Ганфман сказал: «С “Биржевкой” “Речь” не может полемизировать – всякий спор принизил бы ее достоинство».