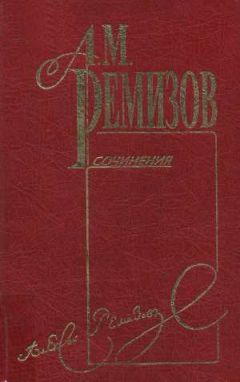– Не знаю, что и делать.
В тот же день Р. В. Иванов-Разумник.
– Да ничего не делать, – сказал Иванов-Разумник. – Измайлов? клопиная шкурка.
Я понял, в Историю русской литературы Иванова-Разумника Измайлову не попасть11; а «клопиная шкурка» – в Европе об этой шкурке не слышно – шкурка наша, изморенный столетний клоп – медленное жгучее точило, только когда нальется кровью, лови.
Уходя, Иванов-Разумник – или «клопиную шкурку» он понял не только как главу в истории русской литературы, стесняясь, он подал мне три рубля.12
Эту зелененькую я буду помнить, вспомню и повторю при имени Иванов-Разумник: в 1920 году, арестованный по делу вооруженного восстания левых с. – р-ов; участвовал в альманахе «Скифы»13, следователь не сразу понял значение этих трех рублей – подлинно, жертвы отзывчивого сердца.
В поздний час – в Петербурге можно – с захлебнувшимся звонком и под стук кулаками навалилась орава – Котылев, Маныч с подручными, галдя. Вся наша комната битком.
Маныч грузно стоял истуканом. Котылев разбрасывал руки, дергая поводами за руки и за ноги окружавших его тесно.
– Мы пришли выразить вам сочувствие.
И тут один тоненький, как Ауслендер, и очень жалкий, подавая мне руку, неожиданно отчеканил:
– Моя фамилия Лев.
И тот выше всех испитой в дьяконовском подряснике, из которого на моих глазах успел вырасти – пожарный репортер, через головы протянул мне руку. Тут были всякие под рост и в пору Марку Бернару. биржа, утопленники, мордобой, поножовщина, скандалы.
Все свои. Но были и с улицы увязавшиеся и любопытные: наш паспортист с откушенным носом выглядывал из-за спины откушенным носом.
– Мерзавцу, возгласил Котылев под одобрение вращающегося круга, в театре публично набьем морду.
Маныч молча фигурил себе руки.
– А от Аверченко, сказал Котылев, возьмите вашу рукопись сказку «Берестяной клуб». Теперь все равно и в «бардак» вас не пустят.
И тот, что называется Лев:
– Моя фамилия Лев, повторяя, тоненькими пальцами пожал мне руку.
В Революцию этот Лев сделался редактором «Огонька», замещая Бонди. «Огонек» журнал при «Биржевке» и будет печатать меня, пока революция не прихлопнет и призрак Льва исчезнет.
И комната с грохотом опустела.
А ведь Котылев, вдруг сказалось, убежден, что я содрал сказку и попался.
– Что у тебя за собрания, крик на весь дом. Я стучал и звонил. У тебя был Коноплянцев?14
А. М. Коноплянцев, елецкий ученик Розанова, пишет книгу о Леонтьеве.
В. В. Розанов газет не читает.
Я ему рассказал о Измайлове
– Баснописец?
– Да никакой не баснописец, сын смоленского дьякона, «тараканомор» главный в «Биржевке»15.
– А ты напиши опровержение16.
– Пришвину отказали.
– Пришвин мальчишка, ты сам напиши.
А я подумал: «Одно слово Шахматова, и всем горло заткнул».
Жили на селе два старика, Семен да Михайла, разумные старики – приятели.
Косил старик Семен с работником сено, пришла пора обедать, присел работник отдохнуть, а Семен за бересту принялся – работящий старик, без дела не посидит, – бересту драл, клуб вил.
Идут полем люди.
– Бог помощь, работнички! Слышали, Михайлу-то нашего, старика, на дороге убили.
– Как так? – подскочил Семен, – убили? Экие разбойники, убили!
И уж не может старик бересту́ вить, бросил клуб в кошелку, пошел с поля домой.
Идет старик, не может сердца сдержать – Михайлу вспоминает.
– Разбойники, – твердит старик, – злодеи, за что убили? – твердит старик, так в нем все и ходит, – убить вас мало, злодеев!
А из кошелки-то у него, глядь, кровь.
Работники сзади шли, и видят, кровь из кошелки бежит. Да уж за стариком, не отступают.
А Семен идет, не обернется, – не до того! – так и идет.
И пришел домой, швырнул кошелку в сенях, сам в избу.
Тут работники к кошелке, да как открыли, а в кошелке не береста, не клуб берестяной, – голова человечья.
– Ну, – говорят, – это ты, крещеный! Ты и убил Михайлу! – Да за десятским.
Пришел десятский, пришли понятые, стали смотреть кошелку: так и есть, в кошелке голова человечья.
Приложили к кошелке печати, а старика Семена в тюрьму.
Немало сидел старик.
Каялся священнику,
– Осуждал! а в убийстве не повинился, – не грешен, не убил никого.
И на суде не повинился.
– Не грешен не убил никого.
И рассказал, как узнал про Михайлу, как с поля шел и сердца не мог сдержать, проклинал злодеев.
Принесли кошелку, распечатали.
А там не голова, – лежит клуб берестяной.
И вышло старику решение:
отдать старика под наказание – не убил он, а за то, что за убийство осудил убийцу, не пожалел.
Москва встретила меня карикатурой: жиром заплывшая морда, по носу узнаю себя, пауком среди книг, в руках ножницы, а подпись: «писатель или списыватель?» Потянуло в город на Ильинку. Шел пешком из Таганки – дома́ меня встречают. И тумбы и фонари знакомые.
Был на Бирже.1 Биржевое собрание еще не кончилось. Старик-служитель, не глядя, остановил меня в дверях: во время собрания никого не велено пускать, пятьдесят лет он служит и во сне не забыл бы исполнить приказ. Но, покосясь на меня – из какого-то упорства я не подумал отходить от дверей – он растерялся. Я видел, как лицо его вытянулось, а рука, напруживая синие жилы, потянулась к дверной ручке – распахнуть двери. И потом он расскажет, моргая красными глазами – в них было и умиление и восторг – как, взглянув на меня, ему представилось, что это «сам», – такое, значит, было необыкновенное сходство у меня с моим дядей, головой Московской Биржи и его хозяином, и все 50 лет службы за один миг промелькнули перед ним, и он не посмел не отворить мне дверь.
«Пожалуйте!» – бормотал он, теребя ручку.
К его счастью, собрание окончилось. И я вошел в гудевший зал. А так как я был первый вошедший из посторонних, меня заметили и узнали, с добродушными восклицаниями: одни просто называя меня «Алексей», другие с шуточным прищелком «плагиатор!».
Тут были и старики, которые знали меня с детства, и мои сверстники по коммерческому училищу.
Моя ссылка была встречена всеобщим порицанием. Мое имя на годы было как вычеркнуто. Родственники от меня отказались. Имя мое не произносилось, а если из молодых кто помянет, оборвут. Но мой «Пруд» с Москвой – поднятый газетной бранью, мое имя со скандальным и повязью «декадент» обратили внимание, и стали поговаривать. Одним нравилось, другим не нравилось, но у всякого оставалось: «толк выйдет». И прошлое мое обернулось, как сказали бы деды, «не грех, токмо падение», а кто-нибудь еще прибавлял, конечно, по-своему, что значит по старине: «не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься».
И теперь, когда в газетах – «Раннее Утро»2 и «Русское Слово»3 читает вся Биржа – меня объявили вором, которого нельзя терпеть среди литераторов, вызвало всеобщее негодование.
Старик Грибов сказал:
«Из семьи Найденовых и Ремизовых воры не выходят, ошибаетесь!»
И вот почему мое появление на Бирже встречено было с необыкновенным радушием. Всем хотелось выразить мне свое чувство и потрунить: «плагиатор», покрывая замоскворецкой руганью обнаглевших газетчиков.
Но как и почему все совершилось, что дало повод такому позорному обвинению! Это занимало каждого. Биржевое собрание не расходилось.
Я хотел обратиться по старине: «отцы и братья», но, встретившись глазами с Грибовым, сказал, слыша себя, как постороннего, свое из глубокого молчания исходящее слово.
«Александр Иваныч, верите ли вы мне?4»
Грибов, нахмурясь, беззвучно шевелил седыми губами.
«Ве-рим!» – прокричал Корзинкин – когда-то сидели в училище на одной скамейке. «Верим», – повторил он, ударяя на «ве» задорно и твердо.
«Я, – и я остановился передохнуть, очень меня взволновало, – я не вор».
И в ответ мне – среди наступившего молчания, которое, мне показалось, длится бесконечно – я вдруг услышал и я вдруг увидел: старик Грибов с добрыми глазами на меня, твердо стукнул об пол палкой и пошел.
Биржевое собрание закрылось.
Шумно и как-то празднично, покидая Биржу, расходившиеся взбудоражили Ильинку. И сквозь дребезжание пролеток и шмыг резиновых шин на Спасской башне играли часы полдень.
Вечером, знакомой дорогой – иду по правой стороне с Земляного вала – сколько лет ходил на Старую Басманную в училище – мимо Рябова, мимо Курского вокзала, Погодинской церкви Никола Кобыльский и на Гороховскую в дом О. Г. Хишина к С. В. Лурье.