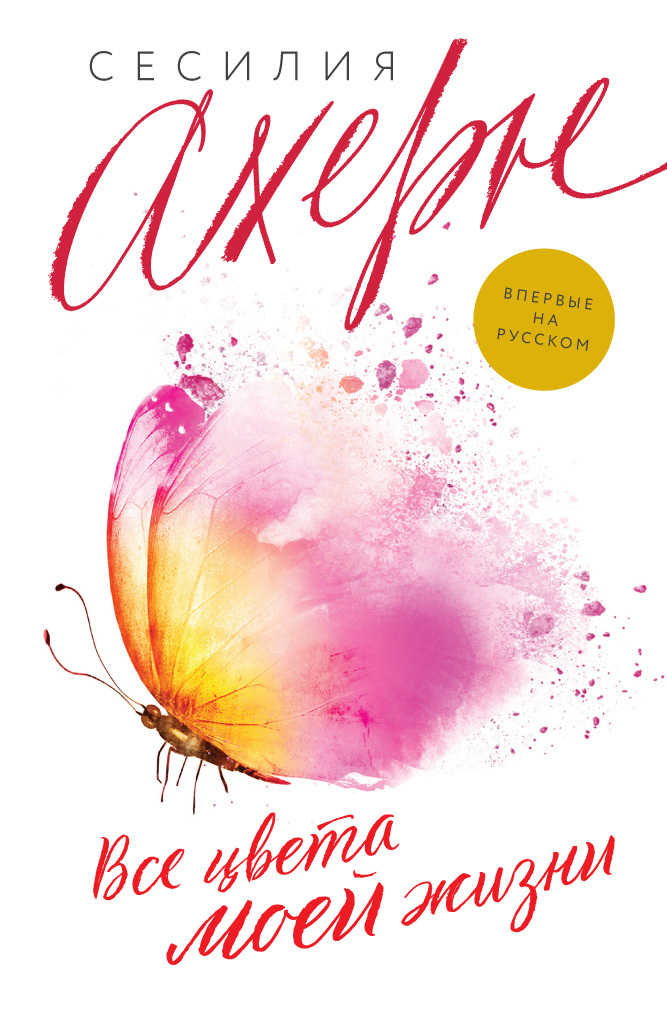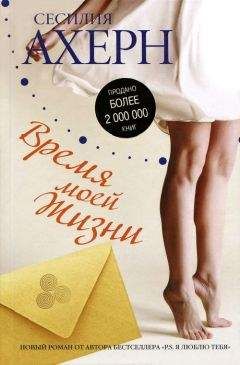о чем говорит Салони. Вот уже почти месяц я учусь в «Новом взгляде» и относительно нормальна по сравнению с другими учениками этой школы. Оказывается, Салони оказалась здесь не из-за патологической лживости, а из-за того, что кусается, когда не может соврать; Госпел попал сюда вовсе не из-за синдрома Туретта, которым он страдает, а из-за склонности к вспышкам злости. Мне не пришлось стать жертвой их выпадов, но было интересно, а сначала и удивительно смотреть, как вся такая расфуфыренная Салони накидывается на несчастных, которые не так на нее взглянули, и вонзает свои дорогущие зубы в их плоть. Правда, это было только раз; так-то она кусала собственную руку, подушку, мебель, если та оказывалась ей по зубам. Теперь я знаю, откуда пошло выражение «рвать и метать». Госпел набрасывается не столько на людей, сколько на предметы. Стулья, столы – все, что попадает ему под руку, – в один миг превращается в снаряды. Ни он, ни она не понимают, как я сюда попала. Я не говорила им об этом, и они веселятся от души, стараясь угадать, какой у меня «бзик».
– Она мало говорит, – начинает Салони.
Госпел смеется в ответ:
– За то, что мало говоришь, сюда не отправят.
– Почти совсем не говорит, но я знаю, что она меня слышит. Алло! – говорит она и тянется, чтобы постучать меня по голове. Я скалю на нее зубы, и она смеется.
– Девочки! – Амелия, инструктор по йоге, прерывает занятие и громко делает нам замечание. Мы, как всегда, стоим в последнем ряду. Дожидаемся, пока она скрутится в очередную йоговскую позу, и продолжаем разговор.
– Может, Элис больше любит наблюдать, чем говорить, – поддразнивает меня Госпел, и мы смеемся потому, что он заметил, как я разглядываю людей – молча. Все время наблюдаю, каждого вычисляю. Даже теперь, когда они все гадают, что же со мной не так, я смущаюсь.
– В заднем ряду, прекратили разговаривать! Сосредоточились!
Рядом на скамейке сидит мужчина. Его почти не видно из-за дерева, но осень вступает в свои права, поэтому листва редеет. Его цвета я вижу яснее, чем его самого. Он сияет. Он сидит лицом к игровой площадке.
– На вид она нормальная, – говорит Госпел. – По крайней мере, пока. Так мы все тут на вид нормальные.
– В тебе ничего нормального нет, – огрызается Салони.
– А нам пока рановато показывать свой истинный цвет, – отвечает он. Я смотрю на него и удивляюсь, как хорошо он ухватил суть дела.
– А что? – с невинным видом спрашивает он. – Что я такого сказал?
– Салони, Госпел, Элис, не отвлекайтесь, пожалуйста!
У скамейки, где сидит мужчина, стоит велосипед. На коленях у него лежит шлем. Рядом с собой он поставил раскрытую коробку с сэндвичем. Но что-то тут не то… Красный цвет вьется вокруг его бедер, и я узнаю его – это тот же цвет желания, какой был у Хью, когда он встречался с По, только в этот раз он мне не нравится. Этот цвет не тот, не на той части тела и не в том месте. Черный медленно плавает у него вокруг головы, точно темное грозовое облако психического отклонения и настоящего зла. Черного я до этого ни разу не видела.
Я встаю.
– Элис, ты куда? – спрашивает Госпел.
А я шагаю к мужчине на скамейке. Нужно проверить, что я не ошибаюсь в том, что вижу.
– Элис, вернись! – кричит Рейчел.
Я ускоряю шаг.
На мягком покрытии игровой площадки возится маленькая девочка, и почти всю ее закрывает огромный намокший памперс. Человек на скамейке следит за девочкой. Вокруг нее розовые, золотые, чистые, невинные, радостные цвета. Она что-то бормочет себе под нос, поднимает листок, роняет, снова поднимает. Кладет листок на качели. Толкает их. Снова берет листок. Кидает его на землю. Топает прочь, забыв про листок. Приостанавливается. Вспоминает, поворачивается и идет обратно к листку.
Он наблюдает за ней. Шлем все так же лежит на коленях. Грубый, нечистый красный вьется между его ног. Черный, чистый черный моргает, и мне кажется, я слышу потрескивание, точно в ненастроенном радиоприемнике с еще не выставленной частотой. Он не двигается ни туда ни сюда, плотно залип в этой черноте. Грязный, растленный тип.
– Что, маленьких детей любите?
Он недоуменно смотрит на меня.
Я поднимаю его шлем, вижу, как напрягся под ним член, и швыряю шлем прямо ему в башку. Своей твердой частью он с треском попадает в цель. Хозяин шлема валится набок, а я снова замахиваюсь.
– Элис! – Амелия оказывается рядом со мной, запыхавшись от быстрого бега.
За ней несутся все остальные.
– Кому сказала: стоять! – кричит она им в панике.
Они не слушают ее и бегут ко мне со всех ног.
– Подонок! – ору я на него.
Весь класс подбадривает меня криками.
Мать хватает девочку и спешит прочь с места происшествия.
Я воодушевляюсь присутствием аудитории, даю волю своей ярости и с трудом удерживаюсь, чтобы еще раз не шарахнуть его шлемом по голове. Зато я швыряю его прямо в пах, вокруг которого уже нет возбужденного красного вихря.
– Ничего себе, Элис! – произносит Салони. – Да ты такая же, как мы.
* * *
Я подготовилась к неожиданной встрече с Салони, хоть и час ранний, и в офисе еще пусто. Я хорошо продумала, о чем рассказать, я отрепетировала удивленный взгляд: мол, надо же, и не догадывалась, что это бизнес ее семьи. Но вся моя конструкция разваливается, когда встреча происходит. Нет в ней теперь никакого смысла. Мне не нужны притянутые за уши алиби и объяснения потому, что она меня не узнает. Она почти не смотрит на меня, мы никогда не встречаемся взглядами.
– Я на минутку, – вежливо произносит она, открывая свою спортивную сумку. – Одеться нужно.
Подмигивает мне и продолжает:
– У меня в офисе душ опять сломался.
Я смотрю на нее и очень хочу, чтобы она меня увидела, вспомнила. А может, пришла на помощь? Она ощущает во мне что-то странное, смотрит на меня, прямо в глаза, но ничего так и не происходит. Я пячусь из санузла вместе со своей тележкой.
– Не уходите, я ненадолго, – произносит она, стягивая через голову потную майку, так что становится виден ее спортивный бюстгальтер.
Я ловлю себя на том, что прямо пялюсь на нее. Занятия спортом окупаются: живот у нее подтянутый, руки и плечи мускулистые, сильные. Такой красивой она еще не была.
– Плоды упорных тренировок, – говорит она вроде бы жизнерадостным, но уже твердым голосом, включает воду и начинает мыть под мышками.
Сердце стучит, и в раздумьях о том,