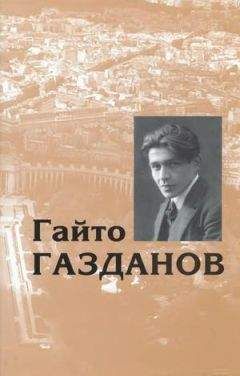— Ты раскровенил моего… Посмотрите на него, он, может быть, умер! Сволочь!
Он удивленно на нее посмотрел, пожал плечами и пошел прочь своей быстрой и гибкой походкой. Она бежала за ним и кричала, уже совершенно захлебываясь от слез и бешенства:
— Сволочь! Сволочь! Сволочь! Убийца!
Я стоял недалеко от фонаря. Она опустилась на колени перед субъектом в кепке, продолжавшим лежать с мертвой неподвижностью, и говорила рыдающим голосом, в котором я с удивлением расслышал нечто похожее на животную и булькающую нежность:
— Бебер, ты меня слышишь? Бебер, мой миленький Бебер!
И в эту секунду из темноты выехали на велосипедах два медлительных полицейских.
Я сел в автомобиль и поехал дальше, и мне вспомнились слова Ральди:
— Да, мой милый, это любовь. Ты этого, может быть, никогда не поймешь. Но это любовь.
Это был субботний вечер. Шоферы становились в очереди у балов, и возле гостиницы "Лютеция" я заметил одного из них, вид которого давно заинтересовал меня: это был маленький старичок с огромными седыми усами. Он был настолько карикатурен, что я не мог удержаться от улыбки всякий раз, когда его видел. И вот теперь я впервые заговорил с ним. Судя по его твердому акценту, он был из окрестностей Гренобля. Он односложно отвечал, когда речь касалась чисто профессиональных вопросов, но внезапно оживился при упоминании об аэропланной выставке, которая кончилась несколько дней тому назад.
— Да, да, — небрежно сказал он, — у них есть кое-какие достижения, но все это пустяки. Они не занимаются самым главным.
— Чем именно?
Мы стояли с ним вдвоем, остальные шоферы в стороне рассказывали друг другу о своих клиентах. Был четвертый час утра, фонари освещали пустынный тротуар; старичок стоял против меня, — маленький, худенький, с громадными усами, которые подошли бы какому-нибудь гренадеру начала прошлого столетия, и с чрезвычайно важным и решительным выражением лица, которое меня поразило.
— Самое главное, — сказал он, — это, что каждый человек может и должен летать.
Я молча смотрел на него. Он повторил:
— Да, мсье. Может и должен.
— Должен, может быть, — сказал я, — хотя я и в этом, по правде говоря, не уверен. Но не может, вот в чем дело.
— Да, мсье, может. Я уже давно работаю над этим, и рано или поздно я полечу, и вы это увидите.
И он рассказал мне, что изобрел особое приспособление, какую-то систему крыльев и передач, но что семья его, конечно, не понимает значения его дела, и поэтому ему приходится трудиться в очень неблагоприятных условиях.
— Они не дают мне места, у меня нет мастерской, — сказал он, — и я вынужден работать в уборной, это очень неудобно. Во-первых, меня часто прерывают, во-вторых, помещение слишком небольшое и низкое, надо стоять в совсем особенной позе — и после некоторого времени у меня начинает болеть спина и зад. Полет состоит из трех фаз. Первая такая, — и он, не двигаясь с места, взмахнул несколько раз руками. — Это подъем в воздух. Вторая так, он сделал несколько таких же движений, только более плавных и медленных. — И третья, это то, что в аэропланной технике называется скольжением на крыло. Вот так.
И он наклонился налево, вытянув во всю длину обе руки так, что они образовывали одну линию, и вдруг, подпрыгивая, мелкими и быстрыми шажками, побежал прочь от меня по тротуару. Одна рука его почти касалась земли, голова была прижата к плечу. Это было так неожиданно и так комично, что я стоял и смеялся до слез, не будучи в силах удержаться. Он вернулся ко мне после своего полета и сердито сказал:
— Вы ничего не понимаете, вы просто глупы.
Но я даже не мог отвечать ему, слезы текли из моих глаз. Я долго потом вспоминал его маленькую старческую фигурку, наклоненную набок, с двумя параллельными линиями, пересекающими под прямым углом этот наклон, — линией рук и линией седых усов. Он был тихий и безобидный сумасшедший, мне о нем рассказывали его товарищи по гаражу. Среди шоферов, как во всякой сколько-нибудь многочисленной корпорации, попадались самые разнообразные типы, в частности сумасшедшие или начинавшие сходить с ума: особенности этой профессии, постоянное нервное напряжение, зависимость заработка от очень случайных обстоятельств, которые никак нельзя было учесть, — все способствовало тому, что душевное спокойствие этих людей подвергалось испытаниям, которых нередко не выдерживало. Многие шоферы просто представляли опасность для пассажиров, это были алкоголики или больные, уже тронутые началом общего паралича, у которых система рефлексов теряла необходимую гибкость. Я знал даже одного прокаженного шофера. Бог весть как заболевшего этой редкой болезнью; все лицо его было оклеено огромными пластырями, как забор пустыря рваными афишами; он вдобавок был еще очень беден и очень плохо одет, так что, когда я его увидел в первый раз на улице — он шел в гараж, за автомобилем — я принял его за нищего. Потом я познакомился с ним, он был озлобленный человек и коммунист по убеждениям, хотя, подобно большинству этих людей, не имел никакого понятия о государственных или экономических системах.
В этом ночном Париже я чувствовал себя каждый день, во время работы, приблизительно как трезвый среди пьяных. Вся его жизнь была мне чужда и не вызывала у меня ничего, кроме отвращения или сожаления, все эти любители ночных кабачков или специальных заведений, эти своеобразные влюбленные, по терминологии Ральди, похожие своим бесстыдством на обезьян зоологического сада, — от всего этого, как говорил один из моих коллег по шоферскому ремеслу, специалист греческой философии и неутомимый комментатор Аристотель, с души воротило. Уйти от этого было нельзя; и об этих годах моей жизни у меня осталось впечатление, что я провел их в огромном и апокалиптически смрадном лабиринте. Но, как это ни странно, я не прошел сквозь все это без того, чтобы не связать — случайно и косвенно — свое существование с другими существованиями, как я прошел через фабрики, контору и университет.
И вот, неожиданным и маловероятным образом, моя жизнь оказалась сплетенной с тремя женщинами, Ральди, Сюзанной и Алисой. Знакомство с Ральди возникло из ее ошибки, может быть, потому, что ей изменила зрительная память, или потому, что я действительно имел незавидное и нелестное достоинство походить на какого-то давно исчезнувшего мерзавца, этого злополучного Дэдэ. Но Сюзанна и Алиса, обе питали ко мне нечто вроде непонятного доверия, которое было чрезвычайно трудно объяснить чем бы то ни было, кроме явного заблуждения, даже не умственного, а душевного. И хотя ни той, ни другой я никогда не сказал — так как мне незачем было притворяться и быть неискренним — ни одного даже просто вежливого слова, они обе рассказывали мне все, что им приходило в голову и что им казалось важным; и хотя я отвечал им с неизменной резкостью и ничем не мог и не стремился им помочь, они вновь, с непонятной настойчивостью, обращались ко мне. Может быть, впрочем, частичным объяснением этой их настойчивости было то, что меня явно не интересовала их покупная близость и что я не принадлежал к среде, в которой они жили. Во всяком случае, месяца через два после свидания с Алисой, уже летом, я получил от нее письмо, пересланное мне из моего гаража. Я был сначала удивлен, так как она не знала даже моей фамилии. Все, однако, объяснилось просто: она заметила номер и серийные буквы моего автомобиля, спросила другого ночного шофера, откуда эта машина, получила адрес гаража и написала: "шоферу автомобиля номер такой-то". Письмо было составлено правильно и без орфографических ошибок, я сразу предположил, что его сочинял ее друг, маленький педераст — так оно и оказалось.
"Мой дорогой, — писала Алиса, — я очень хотела бы тебя видеть, я была бы признательна тебе, если бы ты как-нибудь ко мне зашел, — следовал ее адрес, — все равно когда, днем или ночью. Я не выхожу из комнаты и чувствую себя довольно плохо. Я хотела бы с тобой поговорить. Я надеюсь, что ты придешь ко мне, это твой маленький долг за все те неприятные вещи, которые ты всегда мне говорил и за которые я тебя вовсе не упрекаю. Итак, я тебя жду?
Сердечно твоя Алиса Фише".
В прежнее время я не обратил бы внимания ни на это письмо, ни на это приглашение. Но после того, как Ральди умерла, значение этой смерти, этого безвозвратного ее исчезновения было настолько велико, что в нем растворялись все другие соображения, — и после этого не все ли равно, в сущности, было, хорошо или не хорошо вела себя Алиса в том мире, которого больше нет и который умер в ту самую секунду, когда остановилось сердце Ральди? Я чувствовал душевную усталость, думая об этом, но во мне уже не оставалось раздражения против Алисы. Я приехал к ней в десятом часу вечера. У нее была небольшая квартира, чистенькая и прилично обставленная, без особенно резких следов дурного вкуса. Всюду стояли цветы — в передней, в столовой, в ее комнате. Когда я пришел, Алиса лежала в кровати.