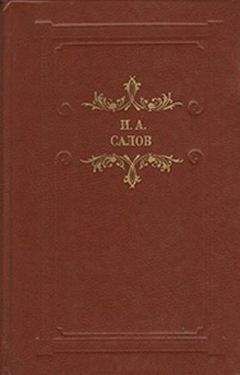— Вам кого угодно? — спросила ее. старушка, попятившись назад, и изумленно вытаращила глаза на стоявшую в дверях женщину.
— Мне, мне… Анфису Ивановну!.. — робко отвечала та.
— Я Анфиса Ивановна, что вам угодно?
— Я… я… Вы меня не знаете, конечно…
— Не узнаю, извините…
— Оно и не мудрено забыть… Это было так давно… Я была еще грудным ребенком, говорят!.. Я и сама даже ничего не помню… и говорю только по слухам… как мне самой рассказывали… Я ваша племянница, Мелитина Петровна, дочь вашего покойного брата, Петра Иваныча…
Услыхав это, Анфиса Ивановна до того растерялась, что даже не нашлась, что ответить, и только жестом руки пригласила ее войти в залу.
— Позвольте уж и детей! — пролепетала Мелитина Петровна, тоже смутившаяся.
— Пожалуйста…
Мелитина Петровна собрала детей и, вводя в залу, заставила их поочередно прикладываться к ручке Анфисы Ивановны.
— Это… тоже, братнины дети? — спросила Анфиса Ивановна.
— Нет, матушка, это мои собственные.
— Так вы были замужем?
— Да, была, тетушка, за Скрябиным…
Анфиса Ивановна вспомнила что-то и даже обрадовалась.
— Ну что, как? — спросила она: — поправился ли он?
— Нет, тетушка, муж скончался… И вот оставил меня одну, с детьми, без средств…
Анфиса Ивановна перекрестилась, хотя и чувствовала очень хорошо, что в голове у нее происходит что-то такое, чего она сама не могла себе, разъяснить.
— Не вылечился, стало быть? — спросила она.
— Нет.
— Еще бы, разве это возможно, поправиться! И руки и ноги оторвало…
На этот раз смутилась уже и Мелитина Петровна и, испуганно смотря прямо в глаза старушке, проговорила:
— Помилуйте, тетушка, ему никто не отрывал ни рук, ни ног…
— Как?
— Так, очень просто, тетушка…
— Да ведь ему на сражении оторвало…
— Помилуйте… Мой муж даже никогда военным не был…
— Да ведь вы сами же говорили мне! — вскрикнула Анфиса Ивановна.
Но, вдруг что-то вспомнив, она мгновенно замолчала, поднесла руку ко лбу и, как будто силясь собрать какие-то мысли, сдвинула брови.
— Да, да, постойте! — проговорила она.
И, пристально взглянув на Мелитину Петровну, спросила:
— Так вы кто же такая?
— Я - Мелитина Петровна.
— Так, так, так… Теперь все вспомнила… Ведь та была не настоящая… А вы… вы настоящая?
— Я настоящая…
— Ну! очень рада, очень рада.
И, поспешно обняв Мелитину Петровну, она расцеловала сначала ее, а потом всех детей и даже обрадовалась при виде приехавших.
— Вы меня, пожалуйста, извините, — говорила она торопливо: — но все это так неожиданно случилось, так внезапно, что я даже не имела времени сообразить. Старуха уж я, память-то у меня ослабла… но теперь… теперь я все и сообразила и припомнила… теперь я все знаю… Очень, очень рада… Пойдемте, пойдемте…
И, введя всех в гостиную, она радушно рассадила их по местам и затем позвала Домну. Та не замедлила явиться на зов.
— Домна! — обратилась она с приказанием к вошедшей: — поскорее чаю Мелитине Петровне и детям.
И тут же, заметив испуг Домны, прибавила, смеясь:
— Успокойся, успокойся, это настоящая.
Мелитине Петровне отвели ту же самую комнату, в которой жила «не настоящая», детей разместили в соседней, и, повидимому, жизнь в Грачевке потекла прежним порядком, то есть все в обычный час пробуждалось, в обычный час обедало и ужинало, ложилось спать и засыпало; но все это только было повидимому, не в сущности; от прежней невозмутимой и тихой жизни не осталось и следа. Брагин жаловался, что дети и яблоки и ягоды обрывают, Потапыч — что на них посуды не напасешься, Дарья Федоровна — что все варенье поели, кучер Абакум — что всех лошадей загоняли! Сама Мелитина Петровна были и тиха, и смирно-воздержанна, и не только не требовательна, но даже крайне снисходительна. Она отлично слышала не скрываемое, впрочем, от нее ворчание и Домны, и Дарьи Федоровны, и Потапыча, и Абакума, и Брагина, но делала вид, что ничего этого не слышит, и скорее заискивала, чем оскорблялась. Она всех называла миленькими голубчиками, рассказывала им со всеми подробностями горькую свою долю, жаловалась на судьбу и при всякой малейшей возможности старалась угодить каждому чем бы то ни было. Брагину она подарила какую-то орденскую ленточку, случайно оставшуюся после мужа, Абакуму — мужнину табакерку, Дарье Федоровне — какой-то старый чепец, с уверением, что чепец этот самой последней моды; но все это мало удовлетворяло прислугу. Прислуге этой досаждало в доме присутствие Мелитины Петровны, а в особенности ее детей. Дети действительно озорники были страшные. Там, в Питере, в подвале, на Песках, с голода, что ли, или по тесноте, но только они были иными — и тихими, и скромными, и послушными, а здесь, на просторе, отъевшись, почуяв свободу, пустились во все тяжкие. Сама Мелитина Петровна не узнавала их и не могла с ними сладить. То они окно разобьют, то плетень повалят… а однажды, играя спичками, чуть было весь дом не сожгли. Потапыч бросил не только пыль стирать, но даже перестал комнаты мести. «Ничто, на них наметешься!» — ворчал он и при всяком удобном случае норовил или ущипнуть, или оттрепать которого-нибудь из сорванцов. Несчастная Мелитина Петровна мыкалась, хлопотала, извинялась, просила не взыскать с глупеньких, но, чувствуя, что и она сама и дети ее стоят у всех поперек горла, плакала и молилась богу. «Господи, — взывала она, падая перед иконами: — неужто опять на Пески, опять в подвал!..» И, быстро вскочив, принималась теребить детей за волосы, а вслед за тем бежала к Домне, к Потапычу, Дарье Федоровне и снова начинала перед ними изливать все свое горе и всю свою тоску.
Раз как-то приехал к Анфисе Ивановне отец Иван. Только что успел он войти в залу, как на него наскочила целая толпа детей и чуть было не сшибла его с ног.
— Откуда это у вас, кумушка? — спросил он Анфису Ивановну, поспешившую навстречу к своему приятелю…
— Ох, уж не говори! — проворчала она и затем, обратясь к детям, крикнула: — Убирайтесь вы отсюда, чертенята!..
Дети быстро выбежали вон.
— Откуда бог послал?
— Да все этой… племянницы-то моей.
— Мелитины Петровны?
— Да.
— Достаточно, однако.
— Наказанье просто… хоть из дому вон беги… Ну что ты, как?
— Понемножку, кумушка.
— Нога-то лучше, что ли?
— Брожу…
— Говорят, у тебя тоже гости были?
— Были-с, — проговорил отец Иван, почесывая в затылке: — вчера проводил.
— Ну и слава богу…
И, перейдя в гостиную, они принялись беседовать. Беседа тянулась долго, но уж это было не то, что прежде. Батюшка ничего не пил, ничего не ел и наотрез отказался от всех угощений, предложенных было Анфисой Ивановной.
— Будет, кумушка дорогая, и попито и поедено достаточно…
— Ничего разве не пьешь?
— Запретили…
— Это живодеры-то?
— Да, они.
— Была нужда слушать, а мой совет вот какой: брось ты всех этих живодеров, не слушай их, пей и ешь сколько влезет, а ногу и руку два раза в день муравьиным спиртом натирай, а всего лучше разыщи муравьиную кучу, да в нее и положи свои больные члены. Я этак раз одного капитана вылечила…
— У капитана-то, может, ревматизм был?.. — спросил отец Иван.
— А у тебя что?
— А у меня паралич…
— Это все равно, никакой разницы нет. Кровь застыла!.. Уж ты не боишься ли, что муравьи тебе ногу отгрызут?
— Нет, не боюсь…
— А коли не боишься, так и попробуй. Слава богу, у нас чего другого, а этих муравьиных куч сколько хочешь по лесу… Кажется, только в одних муравьях и осталась еще охота к честному труду… всё мошенники пошли… Да, — прибавила она, переменив тон, — ты счастливее меня…
— Чем это?
— Твои-то вот гости погостили да уехали, а мои-то — при мне все…
— А долго Мелитина Петровна погостит у вас?
— А господь ее знает!
И, пригнувшись к отцу Ивану, прибавила шепотом:
— Надоела хуже горькой редьки.
— А я думал, наоборот, развлекает вас.
— Так разве она такая, как прежняя…
— Что же, хуже?
— Та умница была, веселая, разбитная… А эта хнычет, хнычет, даже тоску наводит… Поди ж ты вот, разыскала ведь! А все это твои крокодилы виноваты!
— Как мои? — удивился отец Иван.
— Чьи же? Ведь все ты выдумал про них…
— Что вы, что вы, напротив!.. — защищался отец Иван.
— Ну вот еще… Я думаю, я помню…
— Я даже доказывал, что нет их, что быть их не может.
— А молитву-то кто читал от них… Кто на реку-то ходил… Что, небось… прикусил язык-то… А вот кабы ты этой-то истории не выдумывал, так и настоящей Мелитины Петровны у меня бы не было… и не знала бы она даже о моем существовании. А вот теперь и возись с нею. Прогнать как-то жалко… есть нечего будет! и видеть-то ее тошнехонько… а с другой стороны, тоже не чужая ведь, одна кровь-то. А уж так надоела, так надоела…