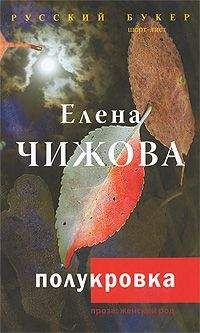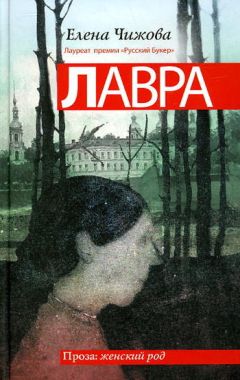"Судя по всему, здесь нам больше не видеться", - он сказал тихо и отрешенно, словно принимал как должное чужое решение. "Здесь - это где: на свободе, в этой стране, на этом свете?" - я не могла остановиться. Он вслушивался, не понимая: "Господи, да здесь, в мастерской", - свободной рукой он обвел стены. Темная картина, висевшая в дальнем углу, вспыхнула. Солнце, уходящее за Неву, залило последним светом. В первый раз я обратила внимание: на самом деле это была не картина. На жестком листе картона топорщился выеденный остов омара - красноватый и огромный. "Ты замечал раньше?" - я спросила, все-таки опасаясь приблизиться. "Конечно, - Митя отвечал недоуменно, - сразу, а..." - "Если за ней телеэкран, а за нами наблюдают, - я перебила весело, - сейчас она должна упасть". Он смотрел на меня со злобой. Я подумала, вот теперь, наконец, меня есть за что ненавидеть. Мысль о заслуженной ненависти наполняла торжеством. Если бы я могла, я сделала бы так, чтобы за нами пришли. В этот торжествующий миг я готова была жертвовать всем, чтобы мысли, которым Митя приносил меня в жертву, на самом деле воплотились. Я глядела на красный остов застывшим, собранным взглядом, как делала всегда, когда сосредотачивалась над бахромчатой строкой. Теперь я должна была услышать звук, из которого, словно вода из необожженного глиняного сосуда, тонкой струйкой сочатся слова. Ни звука, ни слов не было. Я смотрела пристально, не моргая. Красноватый панцирь, дрожавший в воздухе, издал короткий щелчок, похожий на дальнюю петарду, и сразу же вслед - медленно и беззвучно, словно в немом кино, - жесткий картонный лист соскользнул со стены и повалился вниз. Пустой остов, похожий на рыцарские латы, изъеденные красноватой ржавчиной, ударился об пол и разлетелся на мелкие осколки. Сведенные отростки двупалой клешни подкатились под ноги. Не успев проводить взглядом, я проследила за Митиным: его глаза уперлись в пустой квадрат. Он смотрел пристально и доверчиво, словно грязная стенная гладь действительно должна была вспыхнуть.
"Мы - покойники", - я сказала, наслаждаясь. Он обернулся недоуменно. Присев, я шарила по полу, как будто искала камень. Двуострый остов клешни попался сразу. Я подняла и восставила вверх, как перпендикуляр: "Обрядоверие? Вот - наглядное пособие. Двоеперстие, причина первого церковного раскола, так считают большевики, атеисты и ты - атеист и большевик, - боярыней Морозовой я воздевала клешню, - ты - плоть от их плоти. Для тебя все ясно заранее: кто не с нами, тот - против. - Отвернувшись от телеэкрана, Митя вслушивался: то, что я позволила, не охватывалось его сознанием. "Как ты это сделала?" - он снова всматривался в пустой квадрат. "Подпилила заранее, - я сказала зло, - не бойся, чуда здесь нет, да и откуда взяться, среди нас - покойников. Нас самих впору воскрешать. Представляю, воскресение нового Лазаря, выход из пещеры. Все ждут, немая сцена, и тут являемся мы - все в белом, только не в пеленах, как тот, а в белых книжных листах с черными буковками. Ты думаешь, бумажные листики спасают от смерти? Нет, - я сказала, - чудо свершили большевики, создали нас по своему образу и подобию". Я замолчала. Больше было не о чем. Я стояла у входа в пещеру, откуда уже не слышалось звуков. Темные валуны, завалившие вход, весили больше, чем было по силам. Из этой пещеры я могла вынести одни пустые пелены. "Давай книгу", - я протянула руку. Митя распахнул сумку и вынул. "Может быть, лучше я?", - он предложил неуверенно. "Там никого нет, разошлись, телевизоры смотрят", - я мотнула головой на пустую стену.
"Пожалуйста, позвони мне", - он попросил словами записки, поданной в мою руку. Слова, прежде причинявшие боль, отскочили от души, как от панциря. Я стояла, не шевелясь, словно сама была выеденным омаром, прибитым к фанерному листу. Пальцы, втиснутые в двуострые щупальца, сводило болью. За фанерной доской, на которой я держалась, зияла стенная пустота. "Пожалуйста, позвони мне", - он повторил тише и глуше, словно из глубины пещеры, в которой, объятые любовью, лежали наши тела. Он повторил и в третий, как будто спешил успеть до утреннего петуха. Не отвечая, я оглядывалась: "Надо прибрать", - я вспомнила о тщательно убирающей смерти. "Да вроде... - Митя огляделся неуверенно, - разве что с пола", - присев, он сметал в ладонь мелкие, красноватые осколки. Я смотрела, как он ползает по полу, подбирая неловко. Пальцы, сметавшие в горсть, были слабыми и негибкими, как у мальчика, сидевшего над зеленой книгой, полной насекомых. "Может, Серега склеит", - он ссыпал из горсти на подоконник и сложил крупные - горкой. Теперь все выглядело прибранным. В сумке звякнуло. "Хочешь вина?.. Я принес с собой". - Помедлив, он вытянул.
"Знаешь, если по-твоему, - он оглядывался, ища штопор, - мы не покойники, а старые мехи, в которые не налить нового, то есть налить-то можно, но не удержится... Как-то все поздно, жизнь... - Он поморщился, открывая с усилием. - А вообще, в твоих словах не то чтобы правда, но что-то... половинка. Пододвинув стакан, он налил. "Снова убирать", - я протянула руку. "Выпьем и оставим так, пусть все - как было, вот, мы - здесь", - подняв стакан, он коснулся моего. Я видела его руку: звон получался мелким, похожим на дрожь. "Когда-нибудь мы вспомним, там", - он махнул рукой дальше оконных створок, за которыми притаились те, кто не заступается. "Там - это где?" - я начала снова. "Там - это там, куда мы с тобой в конце концов уедем, - он сказал и выпил. Там, куда мы с тобой уедем, - он начал сбивчиво, как-то мгновенно запьянев, я куплю тебе много платьев, целый длинный шкаф, знаешь, у них бывают такие длинные, со створками, створки двигаются, целая стена... А платья будут висеть на распялочках, двадцать, тридцать, сорок, всякий год по роскошному платью, пока не накопится сто, а потом ты умрешь..." - "Я не поеду, потому что не хочу умирать", - я сказала машинально, не боясь смерти. "В смерти есть светлость любви, затемненной обыденной жизнью, - он произнес с трудом, - это из... помнишь, ты мне давала книгу..." - "Нет, не помню", - я отреклась, словно уже сидела перед лицом тех, которые не заступаются.
Мы выходили по очереди. Митя первым, с пустыми руками. По договоренности я должна была подождать минут пять: если тихо, выходить с книгой. Осторожно, словно Митин страх, который я сочла праздным, все-таки передался, я выглянула из подворотни. Митина фигура маячила невдалеке. Он стоял через три дома, дожидаясь. Улица была пустынной. Если наблюдают, то из окон. Держась поближе к стене, я пошла быстро. Рукопись тянула плечо. Голос, назвавший меня по имени, раздался близко. Машинально я обернулась. Взгляд нырнул под арку. Оборванная фигура ковырялась в помойном бачке. Больше ни души. Отвернувшись от дела, оборванец окинул острым, злым взглядом. Я отступила. "Раньше хоть пальто гороховые выдавали, а теперь - обноски какие-то", - поравнявшись, я выдохнула. Мой рассказ Митю не встревожил: "Они и есть обноски, тех, гороховых", - он покрутил головой.
Мы двигались вверх, уходя от Невы. Из улицы, в которую свернули, нашего дома не было видно. Митин автобус подошел первым. В редкой толпе оставленных пассажиров я стояла одна. Они вышли сбоку, из-за остановки, я не заметила. Двое, одетые просто и скромно - как все. "Зря ты с ним связалась", - один заговорил дружелюбно. "С кем?" - я ответила машинально, растерявшись. "С этим, - он махнул рукой уходящему автобусу, словно прощался с Митей вместо меня. Его товарищ стоял молча. - Красивая русская девушка, что у тебя общего - с этим еврейчиком?" - попрощавшись, он продолжал улыбчиво. "Это - мой брат", - я сказала, чувствуя, как липкий страх касается лба. Заживший шрам, словно открывшийся сызнова, сочился. "Вот только врать нам не надо", - молчавший товарищ перебил сурово. Мой автобус подходил. Краем глаза я видела черный номер, маячивший за лобовым стеклом. Я сделала шаг, но первый заступил дорогу. Двигаясь к автобусу, ожидавшие оглядывались. Ни один не посмел заступиться. "Пустите, это - мой", - я заметалась между двоими. "Твой он будет, когда ты от него родишь, - хохотнул товарищ, - но тогда - от нас пощады не жди". Последний пассажир брался за поручень. "Стой!" - товарищ махнул водителю. Водитель подождал послушно. Выпустив меня, они вскочили. Я стояла, прислушиваясь. Ужас бился гулко, словно я действительно была панцирем, покрывавшим пустоту. "Мите, рассказать Мите", - я бормотала, забыв о сегодняшнем. Схватив комок, я приложила ко лбу. Мокрое текло между пальцами, падало на воротник. Протянув руку к фонарному свету, я всматривалась: на пальцах крови не было. Я подтянула полу пальто и утерлась. Страх отходил. Новые люди собирались на остановке. Стесняясь, словно лицо мое снова разбили, я зашла за фонарь - в тень. Тихонько плача, я бежала от остановки по пустырю. Груды строительного мусора, укрытые снежными пеленами, выпирали из земли. Иссохшие кости, остов мертвого, не подлежавшего воскресению. "Мы умерли, умерли, крещение не берет", - я бормотала, касаясь рукой, как будто снова шла среди матушек, отгоняя Митин назойливый взгляд. Он летел за мною следом, как тяжелое зимнее насекомое, садился на рассеченный лоб. Вечная лужа, невидная под пеленами, лежала по правую руку. Всматриваясь в гладь, я силилась представить двойной багор, цеплявший вспухшее, но видела разросшуюся красноватую клешню. Двупалая, она заносилась над гладью, на которой, как ведьмины пузыри, пучились пустые рубахи. Тяжелый стыд лежал на моем сердце, словно, назвав братом, я отреклась. Внезапная мысль пронзила меня. Оскользая, я повернула к луже. Край, не видный под снегом, лежал под моими ногами. Растопырив руки, я сделала шаг и пошла по замерзшему. Дойдя до середины, расковыряла носком сапога. Освобожденная поверхность льда была неровной и грязноватой. Встав на колени, я расчистила до конца. Лед зиял темным колодцем, стянутой полыньей, заросшим жерлом пещеры. Оконный свет не достигал. Закрыв глаза, чтобы видеть яснее, я разглядывала смерзшиеся тела. Они лежали здесь и там, подо всем ледяным панцирем. Лица повернуты в землю. "Этот лед совершенно прозрачный, и ты, идя по поверхности, сможешь увидеть меня", - ужас, говоривший Митиными словами, распахнул мои глаза. Вскочив с колен, я бросилась назад к спасительному краю, на котором, нетронутыми, лежали мои следы.