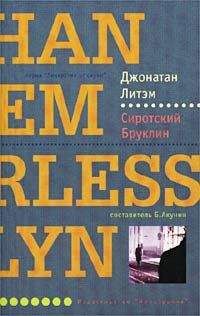больше не надо было лицезреть деградацию или смерть стареющих рокеров. Музыка Хендрикса не деградировала и не умирала. Звучащая в операционной, она превращала нейрохирурга и гитариста в близнецов: оба воспаряли в сферы, казавшиеся эзотерическими всем прозябавшим внизу. Не это ли вынуждало возрастных медсестер давать себе зарок никогда больше вместе с ним не работать? Отлично, Берингер предпочитал молодых. При звуках его любимой музыки кое-кто из персонала закатывал глаза, хотя в глубине души они тоже ею проникались. Становясь его профессиональной «маской» –
Безумный Берингер со своим Хендриксом, – эта музыка избавляла его от необходимости самому найти ей название.
Теперь все внимание Берингера было вновь приковано к пациенту. Лицо немецкого игрока было снято и отложено на поднос, закрепленный между его горлом и грудью. Словно слюнявчик младенца, подумалось вдруг Берингеру. Ассистент Чарлз Кай, специалист в области сосудистой микрохирургии, глядя в бинокулярный микроскоп, – так огранщик алмазов или часовщик заглядывают в лупу – аккуратно передавил артерию и перенаправил основной кровоток по другому руслу, а затем наложил швы толщиной в половину человеческого волоса каждый.
Немец, знай он это, оценил бы, как ему повезло, что молодые и усердные ассистенты выполняют такие прозаические задания. После первого дерзновенного вторжения Берингера в лицо пациента, когда он отнял его нос от орбитальных костей, его ассистенты отогнули оголившуюся плоть словно клапан, который теперь свисал с подбородка немца мясной бородой. Затем мелкие артерии одна за другой были каутеризированы с невероятным тщанием, какого Берингер, с его опытом сотен операций, не мог требовать ни от кого из присутствующих. Круглая часть кости, состоящая из верхнего окоема глазниц и нижнего окоема надбровной дуги, также была удалена и аккуратно отложена в сторону, а осколочки костей, зацепившиеся за лезвие пилы, сохранены для дальнейшего использования в цементном растворе для закрепления восстановленного костного каркаса.
Каверна позади лица немца была готова встретить спелеологическую экспедицию Берингера. Постоянная промывка полости, осуществляемая медсестрами, позволяла ему лучше разглядеть маршрут, определить нужные нервные узлы, чтобы случайно их не задеть. Окружающие мышечные ткани выглядели достаточно расслабленными. Перед ним теперь лежало нечто, ради встречи с чем он и затеял эту операцию. Менингиома, крабовидная опухоль, чернеющая на сканах в виде мутного пятна, которое в ярких лучах хирургических прожекторов приобрело болезненно розоватый оттенок. В ней слабо просматривались венозные прожилки, но, к счастью, с ней не соединялось ни одно ответвление клиновидно-нёбной артерии – другими словами, опухоль не была наполненным кровью мешком, который, чуть что, лопнет, образуя обширное кровоизлияние.
Само новообразование на вид было мягким, во всяком случае, не слишком твердым. Берингер смог разглядеть, даже без микроскопа, фиброзную ткань, вроде бы не представляющую опасности. Центральная часть опухоли претерпела обширную деформацию, высвободившись из заточения позади глазных яблок и лицевых костей. После минимального зондирования стало ясно, что опухоль в самой незначительной степени приросла к окружающим тканям. Сейчас Берингеру надо будет сделать биопсию и взять пункцию из новообразования, чтобы убедиться в правильности диагноза, перед тем как вырезать опухоль, впрочем, у хирурга не было ни тени сомнения в точности диагноза.
Никакую менингиальную опухоль, вырастающую на мозговой оболочке, нельзя удалить полностью. Но чем меньше опухоль вросла в клетки мозга, тем она больше, в процентном отношении, поддается удалению. Медленно разрастаясь, этот интервент может дать о себе знать через десять, а то и пятнадцать лет. Если отслеживать его развитие, то рост можно купировать довольно легко, минимально инвазивным радиохирургическим методом – с помощью гамма-ножа. Но подобные пошлые технологии ни в малейшей степени не занимали Берингера. Проводить такие операции были способны тысячи. Стоящая сегодня перед Берингером задача, на выполнение которой, как ему уже стало понятно, уйдет минимум пять или даже шесть часов кропотливой работы, была по плечу только ему одному.
Вообще-то, благодаря революционным инновациям вроде гамма-ножа, генной терапии и тому подобному, в медицинском мире уже никогда не появится такой исследователь, как Берингер. Этот немецкий наркоторговец должен благодарить судьбу за то, что попал к такому вот нейрохирургу.
– Мистер Гонсалес, – позвал он, не оборачиваясь.
– Да!
– «Красный дом». Тринадцатиминутная версия.
В айподе были загружены только треки Хендрикса. И в частности, порядка десяти версий этой песни. Но Гонсалес, хотя жестокая шутка Берингера и заставила его застонать, точно знал, о чем идет речь. Потому что это была любимая шутка нейрохирурга.
Джими Хендрикс играл еще одну роль в операциях Берингера, помимо того, что служил маской хирурга. Покойный гений еще и олицетворял пациента. После многочасовых блужданий по красной пещере Берингер все больше склонялся к абстракции. Другие хирурги заучивали некоторые факты из биографии своих пациентов, чтобы очеловечивать их и напоминать себе о том, насколько высоки ставки и что сами они висят над бездной, но Берингер не прибегал к такой практике. Он вообще с трудом мог вспомнить имена своих пациентов. И не любил встреч с членами их семей (что, между прочим, было и так невозможно в случае с этим немцем, который, не считая его призрачного спонсора, был один как перст в целом мире). Берингер мог встретиться, если они того хотели, но увещевания родственников не производили на него особого впечатления.
Нет, чтобы не забывать о рисках, Берингер полагался на фантазии. В них он был прежний «рок-док», но куда более высокого уровня, чем молодые интерны из медпункта, раздающие всем желающим лекарства от обезвоживания и тюбики крема от загара. В любой операции мясо, в которое врезался скальпель Берингера, становилось телом великого негритянского гитариста, которого спешно доставили на операционный стол санитары, не дав ему захлебнуться собственной рвотой в номере парижского отеля, потому что ему требовалось срочное удаление новообразования, которое было под силу иссечь лишь самому бесстрашному врачу. И Ноа Берингер, снова и всегда, спасал жизнь Джими Хендриксу. От него и только от него зависело будущее музыки.
Лицо Александера Бруно, уже восемь часов фигурировавшее в качестве открытой двери, и на девятый час операции оставалось все в том же положении.
Это лицо было центром грандиозного ритуала. Ассистенты отслеживали состояние оттянутых губ и щек, желобка между верхней губой и носом, кожного покрова носа, следя за скоростью кровотока и измеряя температуру. Особое внимание они уделяли изъятым глазным яблокам, которым легко было нанести непоправимые повреждения, а также носовым костям и хрящу, временно снятым, как крышки с кастрюли, чтобы облегчить хирургу доступ внутрь черепной коробки.
Анестезиолог, шотландка Макардл, контролировала состояние обездвиженного тела. Рядом с ней работал хирург-невролог, который регулярно проверял и стимулировал кровообращение в неподвижных конечностях пациента.