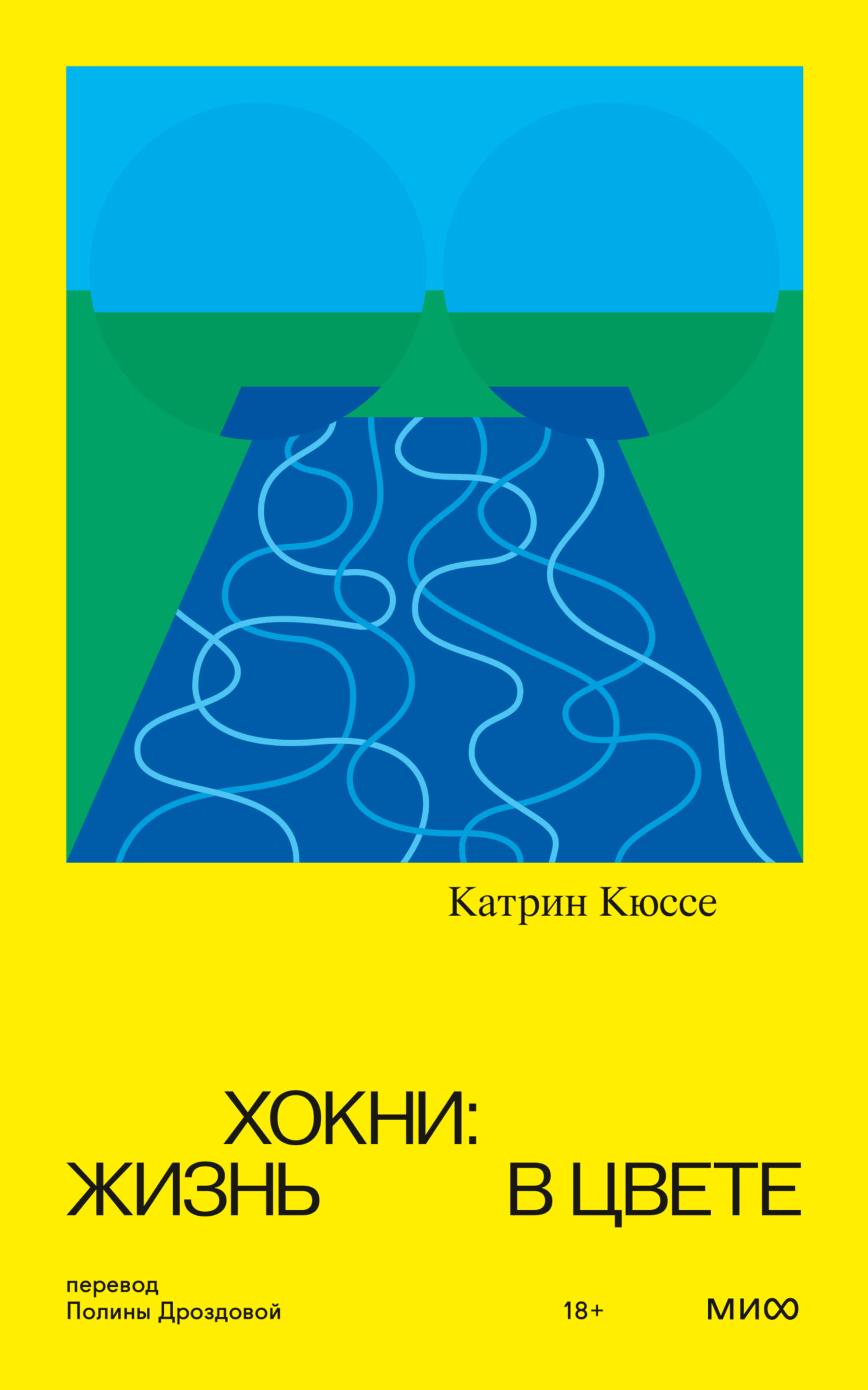за ужином эти двое, которые были моложе его на десять лет, не пили, не курили и даже не переносили запаха сигарет, ели только экологически чистую пищу и постоянно смотрели на часы, чтобы успеть лечь спать не позже десяти часов вечера! Можно было подумать, что это две старые девы. Когда они попрощались, Дэвид спросил себя, как он только мог быть безумно влюбленным в этого человека.
Он жил в Бридлингтоне вот уже девять лет. Девять лет непрерывного творчества. У него еще никогда не было такого долгого периода активности, даже в Калифорнии. Моне прожил сорок три года в своем скромном доме в Живерни, где были только кухарка и садовник, пруд и чудесная мастерская: так он провел сорок три весны и сорок три лета. Дэвид не мог представить себе лучшего образа жизни. Компания, управлявшая его делами, находилась в Лос-Анджелесе и открывалась в десять часов утра, в Бридлингтоне это было шесть часов вечера: он проводил долгие спокойные дни, никакие административные хлопоты не нарушали безмятежного течения его мыслей. Он работал без остановки, не чувствуя ни малейшей усталости. Однажды утром, в октябре, он вышел купить газету, отправившись, по обыкновению, через обширный пляж, тянущийся к востоку от дома, упираясь в белые скалы мыса Фламборо-Хед. Глядя на стальную ширь Северного моря с его ледяными бурунами, он улыбнулся, вспомнив слова сестры: «Иногда я думаю, что простор – это и есть Бог». Это была мысль столь же справедливая, сколь и поэтичная. Он тоже чувствовал себя счастливым, только когда вокруг него был простор. Внезапно он оступился без всякой причины: не было ни ямы в песке, ни камня, о который он мог бы споткнуться, – упал, ничего себе не повредив, и поднялся на ноги. Купив газету и вернувшись домой, он заметил, что, начав говорить, не в состоянии закончить фразу. Он связал это внезапное нарушение речи со своим падением на пляже. Джон вызвал скорую помощь, которая приехала через каких-нибудь десять минут. С ним случился инфаркт. Уже второй раз в его жизни Джон поехал с ним в больницу, держа его за руку, – на этот раз в карете скорой помощи.
Прошли недели и даже месяцы, прежде чем Дэвид снова начал говорить нормально. Он осознавал, как ему повезло: его правая рука никак не пострадала. Она была для него важнее, чем возможность говорить. Это был его второй инфаркт, который не убил его – не больше, чем первый. В отличие от рака поджелудочной железы, как у его друзей Кристофера, Генри и Джонатана, он стал жертвой простого панкреатита. Ему удалось ускользнуть из страшных сетей СПИДа. Смерть играла с ним, давала ему легкие подзатыльники, но в конечном счете удовольствовалась тем, что напоминала ему о его положении смертного: время, которое ему оставалось рисовать, не бесконечно.
После использования в работе многих новых технологий к нему снова пришло желание вернуться к традиционной технике: рисовать углем. Он начал с изображения пня, похожего на тотем: незадолго до этого вандалы изрубили его в куски и покрыли граффити. Это надругательство наполнило Дэвида печалью, которую хорошо передавали черно-белые рисунки. Уголь прекрасно подходил для того, чтобы изображать наготу зимы, но позже он поставил перед собой очень сложную задачу: изобразить в черном и белом приход весны. Это он-то, который всегда любил яркие и сочные краски. Чувствуя усталость после инфаркта, а также большой выставки пейзажей, недавно проходившей в Королевской академии и имевшей огромный успех у публики и критики, он ложился спать в девять часов вечера и вставал уже не так рано, как прежде. Работал он, часами сидя в машине, предельно сосредоточившись, бок о бок с Джеем-Пи, который в это время читал или слушал музыку. Он несколько сбавил ритм, но и в семьдесят пять лет, после двух инфарктов жизнь по-прежнему оставалась для него волнующей и привлекательной.
Тем вечером, после того как он уже два дня подряд на целый день уезжал из дома вместе с Джеем-Пи, у него было только одно желание: лечь в постель и уснуть. Рисунок требовал от него огромной концентрации и сильно утомлял глаза. У себя в спальне он снял слуховые аппараты, как только оказался в постели – тут же провалился в сон и спал беспробудно около десяти часов. Войдя утром в кухню, увидел за столом Джея-Пи, который сидел, обхватив руками голову, – в позе, совсем ему не свойственной.
– Ты уже встал, дорогой?
Джей-Пи поднял голову. На лице у него было странное выражение.
– Дэвид…
Он сразу же узнал этот голос. Бесцветный, с металлическими нотками. Он подумал о Джоне и испугался.
– Что случилось?
– Дом… Дом умер.
– Дом?
Это казалось невозможным. Он видел его десять часов назад на этой самой кухне, когда зашел выпить стакан воды, перед тем как лечь спать. Дом замер у открытой дверцы холодильника, стоя перед ним в футболке и трусах, которые открывали его спортивные ляжки, поросшие тонкими золотистыми волосами. Услышав Дэвида, он вздрогнул и обернулся, держа в руках яблоко и йогурт. Он предупредил, что во вторник его не будет, потому что он собирается на тренировку перед матчем по регби.
Дэвид опустился на стул. Джей-Пи рассказал ему о событиях минувшей ночи. Предыдущие два дня Джон с Домом провели, накачиваясь алкоголем и наркотиками. Этим утром, в четыре часа, Дом разбудил Джона и попросил отвезти его в больницу. Он был бледен, но было непохоже, что сильно страдает; он смог одеться сам, так что Джон особенно не паниковал. Они вышли из дома около пяти часов. По дороге в больницу Дом потерял сознание. И его не смогли реанимировать. Больше Джей-Пи ничего не знал.
– А где Джон?
– В больнице.
Джон вернулся в состоянии крайнего шока, через несколько дней ему пришлось лечь в больницу. В ванной комнате, в раковине, Дэвид и Джей-Пи увидели пустую бутылку из-под средства для прочистки труб: они поняли, что Дом покончил с собой.
Дэвид заставил себя снова начать рисовать. Этот процесс был единственным, что позволяло ему забыться. Искусство имело над ним такую власть. Его взгляд сосредоточивался на стебельке травы, и мир вокруг исчезал. Весь май он ежедневно рисовал: каждый новый листочек, каждую появляющуюся почку, каждый раскрывающийся лепесток – в черном и белом цветах. После этого они вместе с Джеем-Пи уехали в Лондон. Он больше не мог оставаться в Бридлингтоне, который на каждом шагу будил воспоминания о Доминике.
Это была первая смерть после ухода его друга в Лос-Анджелесе. Первая за двенадцать лет, когда уже представлялось, что она наконец ослабила свою железную хватку. Но в этот раз смерть оказалась самой страшной: пришла к нему в