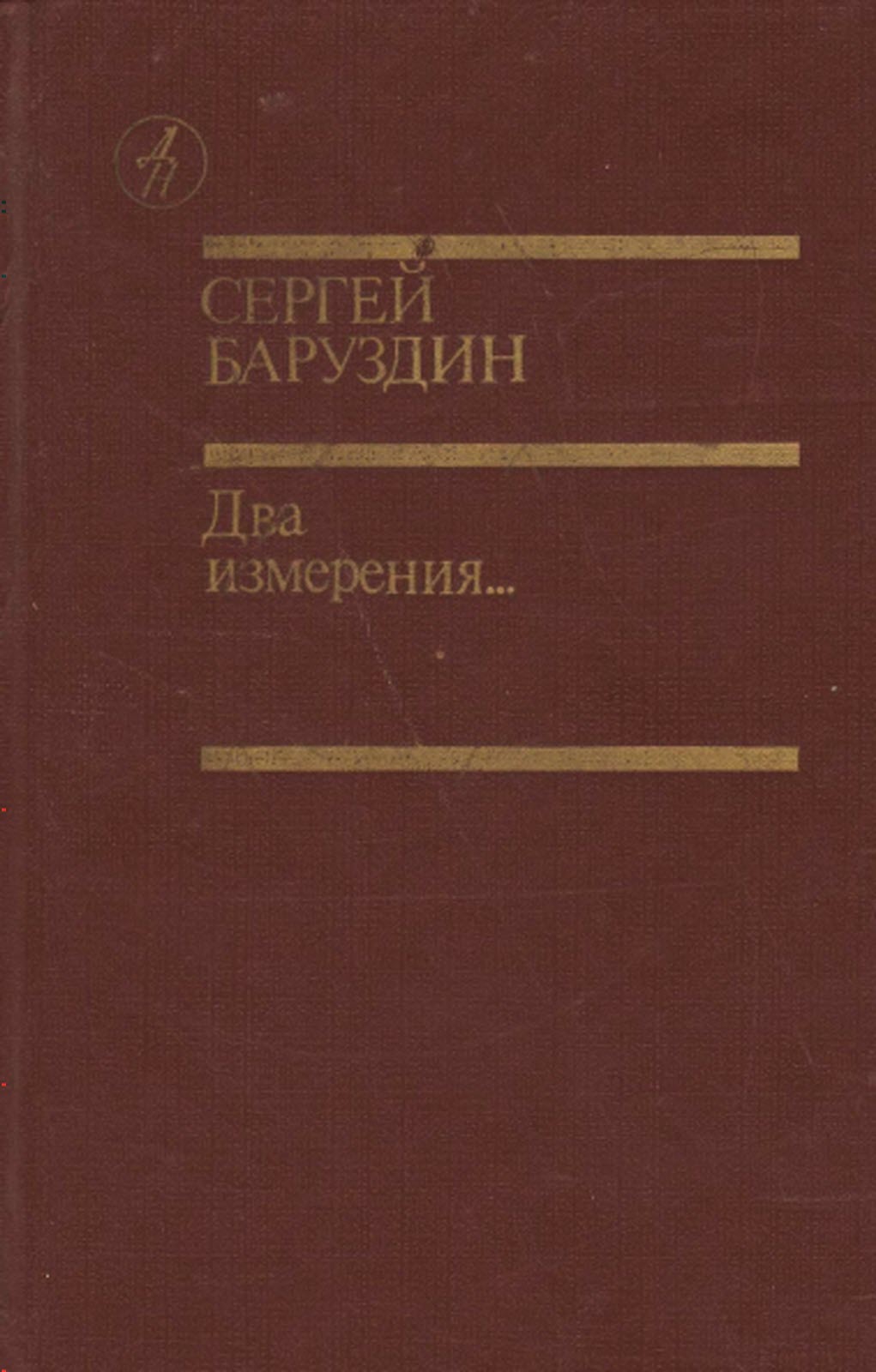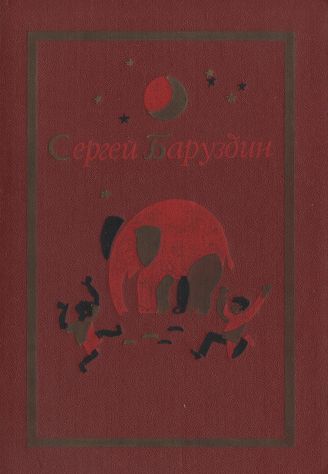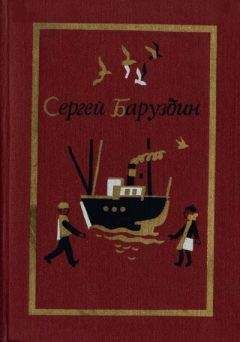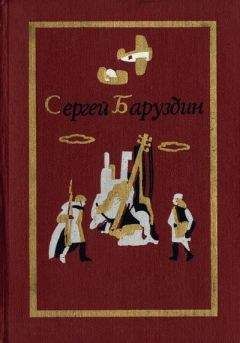тринадцать — пятнадцать лет, молодых женщин! Их увозили эшелонами. Нас, мужиков, да еще военных, было мало. Каждый день в лагерь привозили все новые и новые партии. Меня почему-то даже не допрашивали. Топали на работу по очистке с собаками. Псы были злые. Злее немцев. Я подружился с фельдшером, нашим, русским. Немолодой. Лет за сорок. Штатский. Он меня и спасал. Первый раз я бежал в январе. Неудачно. Вернее, поначалу все было хорошо, но собаки быстро нашли след, и меня поймали. Вернули в лагерь. Посадили в нечто похожее на одиночный карцер. Два месяца я делал подкоп. Потом полтора ждал удобного случая. Как говорится, наученный горьким опытом. В апреле повезло. Вырвался. Прошел по немецким тылам больше трехсот километров. Всякое, конечно, было. И у партизан побывал, но остаться не пришлось. Началось кровотечение. Выходила меня травами одна добрая старушка. Потом опять пошел. Вышел к своим, а тут меня на проверку. Прошел, конечно, хотя полгода ушло. Уж очень у меня запутанная история была. Ну и вот теперь к вам…
Утром Алеша принес Федотову плакат.
— По-моему, получилось, — сказал Александр Владимирович. — Надо срочно показать майору.
Виктор Степанович загорелся:
— Немедленно повезу в политотдел. Здорово! И то, что сейчас очень нужно.
Горсков не решался показать Федотову «Предателя», а особенно «Спящую девушку». И вообще он пока ничего не рассказывал Саше про себя, про Катю.
Плакат Горскова дошел до штаба армии и даже фронта, всюду был одобрен и потом размножен.
Алешу пригласили в штаб 2-го Украинского фронта.
Командующий фронтом Иван Степанович Конев вручил ему орден Красной Звезды.
Член Военного совета Иван Захарович Сусайков предложил работу в штабе.
Но Горсков отказался.
Он не мог уйти от Серова, Истомина, Вязова, от всех своих, а теперь еще и от Федотова. И почему-то казалось, что там, у себя, он ближе к Кате, Глупо, конечно, он понимал, но так было.
Зима на Украине стояла слякотная. То ли зима, то ли осень, то ли весна. Были и светлые, ясные солнечные дни, и вовсю гомонили птицы, и в воздухе пахло мартом-апрелем.
В один из таких дней Алеша решился:
— Хочу, Саша, показать тебе кое-что. Только не суди строго!
И он показал «Предателя».
Федотов смотрел молча и долго.
И отходя от картины, и подходя к ней.
— Ты знаешь, Алеша, — сказал наконец, — пожалуй, только сейчас я понял, что без трагедии нет настоящего искусства. Хлебнешь ты горя с этой картиной. Но не верь никому, не сдавайся! Это — настоящее! И, боже, как ты вырос от того «Каторжного труда…». Ведь это небо и земля. Ты потряс меня!
Алеша не знал, что сказать. Федотову он верил. Но неужели в самом деле так?
Он достал портрет Кати:
— Посмотри это. Называется «Спящая девушка».
— Прелесть! — с ходу сказал Федотов. — И посмотри, какой ты разный. Эта «Девушка», и рядом «Предатель», и тот же твой плакат. Это хорошо, Алеша, очень, очень хорошо! Признаюсь, даже не ожидал от тебя. Ты прирожденный колорист, с видением мира, начисто лишенным плоской натуралистичности, как бы ни была сильна твоя тяга к конкретности и убедительности изображаемого. Я бы так не смог.
Все это было как сон.
Алеше верилось и не верилось.
В тот же день он начал набрасывать новую картину. По замыслу — «Отступление». Берег Днепра. Боец без каски пригоршней берет воду. Словно прощается с родной рекой. В лице должна быть смертельная усталость и тоска. И решимость, что он еще вернется, обязательно вернется.
Алеша работал с увлечением. Сейчас понимал, что он нужен. И не только в трибунале. Плакат, который был известен уже всему фронту, оказывается пригодился.
Федотов видел, как он писал «Отступление».
Сказал:
— Расположение фигуры, пятна света и тени, сам тип головы — все это выходит у тебя не так, как у других. Это — прекрасно!
Серов достал Горскову еще красок. Земляные — охры, сиены, умбры, марсы. Минеральные и искусственные — кадмий, белила, кобальты, ультрамарины, краплаки, прусскую синюю, окиси хрома. И холст.
— Как вам это удалось, Виктор Степанович?
— Немцы отступают, а у них кое-что было, — загадочно объяснил майор.
Теперь все, что Горсков делал прежде — какие-то портреты, зарисовки, этюды, — казалось детской забавой.
Он показал Федотову сделанное вчерне «Отступление».
— Ты растешь на глазах, — порадовался Александр Владимирович и, подумав, добавил: — А не кажется ли тебе, Алеша, что солдат твой должен чуть больше привстать на колено? Понимаешь, как перед полковым знаменем? Словно он дает клятву?
— Пожалуй, — согласился Горсков. — Пожалуй, это идея!
И он вновь влез в работу.
Вспомнил слова ректора Бродского еще в Академии:
— Талант — не все. Работать нужно каждый день!
Но почему там делали упор на жанр, а не на человека? Вспомнил преподавателя Николая Сергеевича Богданова:
— По-моему, ты, Горсков, жанрист, а пейзажи у тебя так, гарнир!
После очередного прорыва пришлось хоронить убитых немцев. Бросили на это дело всех. Оказывается, похоронная команда ушла далеко вперед.
Возились несколько часов.
— А ты заметил, Алеша, — сказал Федотов, — как наши хоронят убитых? Берут за головы, за плечи, но только не за ноги. Немцы не так. Я видел.
— А ведь это тоже характер человека, — согласился Горсков. — Чтобы головы не бились, не царапались о землю. Русский человек в основе своей гуманен…
В одном из взятых городков Горсков достал маску Лаокоона [25]. Поначалу был счастлив, Потом вдруг бросил ее, забросил кисти и мольберт.
Ходил сам не свой.
Федотов заметил:
— Ты что захандрил?
— Да вот Лаокоон, — признался Алеша. — Будь он неладен. Лучше бы я его не видел!..
— Подожди! Подожди! — воскликнул Александр Владимирович. — Помнишь Петра Митрофановича Шухмина?
— Конечно, помню.
Шухмин был одним из лучших преподавателей в Академии.
— Вспомни, что он говорил, — напомнил Федотов. — И тебе тоже, когда смотрел твой «Каторжный труд…», и еще, дай бог памяти, была у тебя картина о земле. Напомни!
— «Вручение Акта на вечное пользование землей», — сказал Алеша.
— Да, да… Так вспомнил, что говорил Шухмин? Жанром занимайтесь, жанром! И Бродский то же! Так что не валяй дурака и садись за свое «Отступление».
Горсков засел. И кажется, дело пошло. Начал теперь не с фигуры и не с Днепра, а с лица. В лице появилась та безотчетная вина перед оставшимися под немцем, которую он так часто видел в лицах бойцов и которую чувствовал сам, когда слышал: «Худющий-то какой…» И та вера, что они вернутся, та внутренняя твердость и жажда победы и мщения, которые видел сейчас, когда они вернулись к Днепру