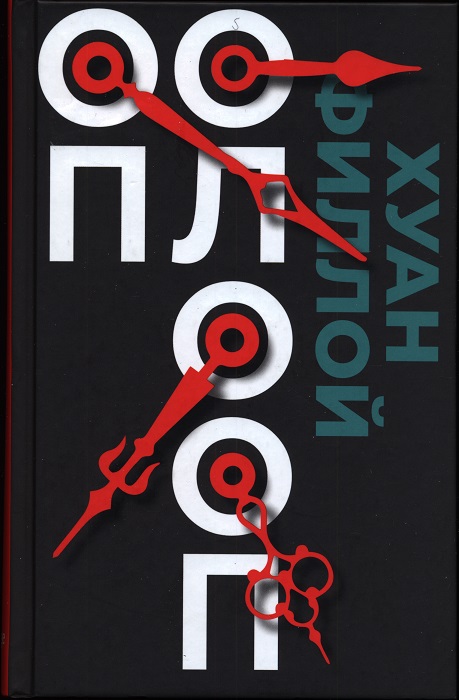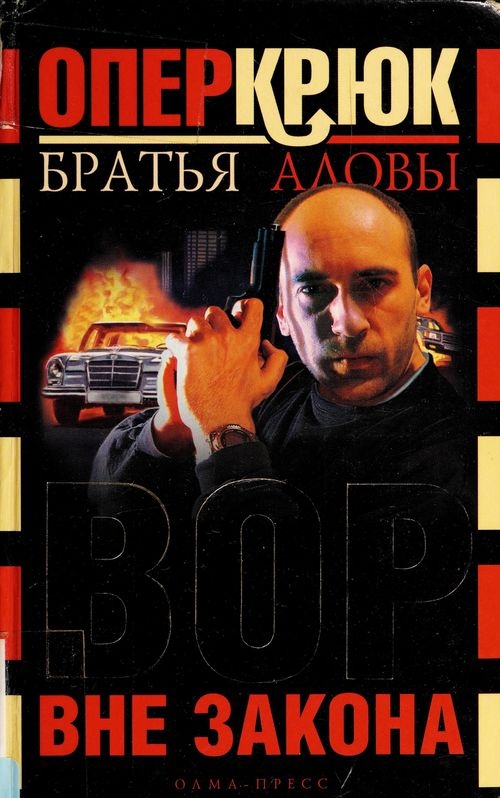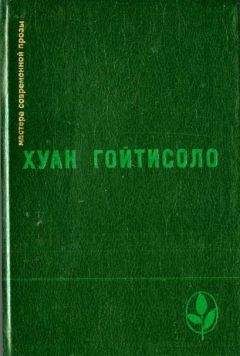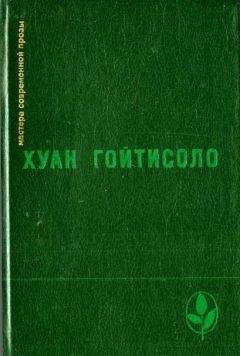компании» сутенера.
Гастон Мариетти с первого взгляда почувствовал всю несправедливость их отношения к нему. Его чуть не стошнило от отвращения, но он сдержал себя. Предпринятое усилие заставило его тяжело задышать. Раздраженно, желая оборвать перешептывания, он протянул руку и втиснул между шушукающимися пепельницу из стерлингового серебра. Инквизиторский взгляд, которым они встретили его поступок, подтвердил враждебность обоих финнов. Словно ничего не заметив, он сказал:
— Сейчас принесут сигары, — и стер с лица горькую усмешку.
Первую сигару maître предложил студенту с тем, чтобы притворной учтивостью загладить свой промах в начале ужина. Вернувшийся Слаттер перехватил на лету вторую. Вскоре все, за исключением Опа Олоопа и Гастона, срывали этикетки, снимали обертки и открывали футляры, чтобы достать из стеклянного вместилища огромную сигару и тут же взять ее в рот.
Над круглым столом запахло кожей и корицей, сандалом и кофе. Все другие огни в grill room погасли, и в наступившем полумраке дымовая завеса словно овеществилась, превратившись в легкий тюль. На контрасте со светлым пятном, отбрасываемым абажуром на островок скатерти, соткался магический полумрак с пятью алыми огоньками. Оп Олооп, усталый взгляд которого шел глубоко изнутри, наслаждался воображаемой реальностью: шелковая вышивка превратилась в переплетенные лианы, а полупрозрачный графин с водой — в пруд.
Мыслями он перенесся туда. И, глядя в сторону сутенера, остававшегося единственным темным пятном, заговорил, сам себя не слыша, как говорят люди, которых слушают все и не понимает никто.
— Франци?.. Да, со мной… Ох, Франци!.. Очень плохо… Кто бы мог подумать?.. Потерянным… Совершенно потерянным… Разве нет?.. Да, все дело в укусах… В укусах! Какие у тебя руки!.. Сочные… Словно сочная мякоть груши… Нет, нет!.. Совершенно… Никакой лести… Ты нравишься мне такой… Рост метр шестьдесят два, шея тридцать два и четыре, бюст восемьдесят два, талия пятьдесят восемь, бедра восемьдесят шесть и четыре, охват бедра сорок четыре и четыре, икры двадцать восемь и восемь, лодыжки восемнадцать и восемь, аххх!.. Да, по памяти… Совершенные размеры!.. Более чем совершенные… Венеры, еще не пробудившейся ото сна… Да, конечно… Но еще больше, когда ты радуешь меня одного легкой наготой домашнего одеяния… Тс-с!.. Никогда!.. Ты просто не видела моей тени… Убогая… Латаная!.. О моя те-е- е-нь!.. Изорванная страшными крокодилами… Говорю, нет… Она кажется такой же, но она — другая… Я починю ее заплатками из замши… Тянет меня, зовет к себе, скачет, как шимпанзе… Никогда!.. Это ужасно!.. Я не хочу омрачить твою тень, подобную алмазу в воде… Не хочу… Твоя тень будет страдать… Потому что, знаешь, тени страдают… Твои намерения причиняют мне боль, подобную физической… Моя тень теряет цвет, пораженная эпидемией серых неудач… Нет!.. Оставь меня!.. Я хочу скулить… Я и сам предсказываю себе утешение с кафедры своего сердца… Но это бесполезно! Бес-по-лез-но!.. Я — проклятый жрец… Ай!.. Изорванный безжалостными укусами… Ничего, ничего!.. Я должен напитаться тишиной… Питательной тишиной смерти… Да, Франци, ту baby, ибо твоя заносчивая невинность хуже извращенности… Укусить себя… Ай!.. Демон логики в логическом аду… Ай!.. Подобный реверсивной гиене… Чей образ пришел из мира фантазий… Ааааай!.. Ааааааааааааааай!.. и будет вечно рвать мою душу… Аааааа!
Гости опешили от неожиданности: ресницы перестали моргать, рты приоткрылись. Сигары — некоторые из них потухли — неподвижно упокоились на обмякших пальцах.
Никто не смог произнести ни слова.
Душа Опа Олоопа снова зашевелилась под кожей. Пока он рисовал свои сны, пришедшие из неведомого горячечные духи терзали его лицо в глухом и лживом шабаше из гримас, криков и возгласов. Горечь тела без души отпечаталась на его физиономии. Его душили слезы. Но плач все не проступал, и коварная мука раздирала его изнутри. Гримаса терзаемой жертвы долго не сходила с его лица. Сознание было помрачено. Оно уподобилось исковерканной массе, искавшей тропинку разума среди обломков собственной личности.
Гости деликатно молчали. Любые слова эхом отозвались бы в пустом сосуде животных инстинктов. И, возможно, натолкнули бы на осознание потери разума, своей ущербности, своей болезни, наполнив этот сосуд стенаниями и отчаянием, а это куда патетичнее и печальнее, чем сарказм сумасшедшего, не верящего в свое сумасшествие.
Прилив духа затопил плоть. И его глаза из переменчиво-отстраненных, обшаривающих потаенные уголки души — туманные таинственные берега, населенные нежностью; притоны с шайками, сколоченными непонятными символическими снами; трущобы, кишащие низменными порывами, и дорогие кварталы с высокими чувствами, исповедующими снобизм спасения, — вернулись обратно, к обычной жизни и людям.
— Как! Вы не курите? — спокойно спросил он. — Курите. Поверьте мне, это лучшие сигары в Буэнос-Айресе. Их делают на уникальной фабрике, в соответствии с требованиями руководителей служб протокола основных мировых держав. Когда я был на Кубе, Энрике Хосе Барона, настоящий знаток плодородных низин и источников, поведал мне секреты изготовления и хранения сигар и указал мне на эту марку как на лучшую из лучших.
— А вы почему не курите? — отважился спросить его Робин, разжигая свою сигару.
— Мне хватает двух сигарет в день. Я верен египетским табачным смесям — «Dimitrinos», «Matoussian», «Senoussi» — на основе македонского табака…
Естественность его речи и острота его памяти убедили всех, что Оп Олооп вышел из помраченного состояния абсолютно нормальным. Всех, но не Гастона. Он увидел, что время для его друга словно застыло, что свидетельствовало о тяжести недуга: дело в том, что сбои душевного здоровья, остающиеся незамеченными для пациента, приводят к неизбежной катастрофе.
И Гастон мудро, по-самаритянски, вознамерился направить свои усилия на оживление разговора, чтобы отвлечь Опа Олоопа. Но Ивар, воспользовавшись неловкой тишиной, атаковал первым:
— Так вы, значит, бывали на Кубе. Какая великая страна! А? Я трижды летал из Майами, Флорида…
— Из Майами, Флорида… Испанские слова на испанском языке.
— …На остров, чтобы снимать натурные сцены.
— Я знаком только с Гаваной. И то проездом: всего неделю. Возвращался из Нью-Йорка, скорее даже из Вашингтона. Там имел место один инцидент, спровоцированный руководством архива Американской службы регистрации захоронений, вынудивший меня подать в отставку, чтобы отстоять мои принципы и веру в себя. Чиновник печали, стратег армии мертвецов оставил свое упокоенное войско!
— Сколько стенаний по поводу десяти миллионов погибших на войне! Нам не помешала бы еще одна война, чтобы повысить цену и спрос на зерно!
— Эрик!
— Случайность свела меня с табачным магнатом из Кентукки, сын которого, так яро отмечавший наступление мира, уже умер от delirium tremens. При его посредничестве я получил место в Контрольном департаменте организации, воплощавшей в жизнь план Чадбурна по ограничению объемов производства сахара во имя сверхприбылей для акционеров сахарных заводов. Я продержался всего три дня. Достаточно, чтобы