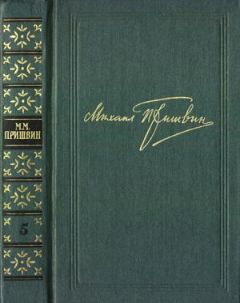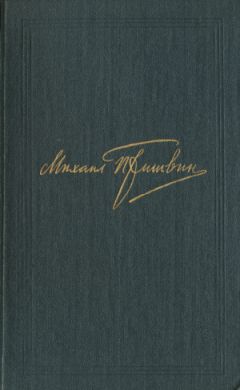Удивляет меня всегда и радует, что если такая пара появляется в природе, то все разные птицы, зверушки, цветочки, и ароматы растений, и все прекрасное соединяется в одно и служит любящим и день и ночь: днем поет жаворонок, ночью поет соловей.
Да вот и я сам, как подумаю о счастливцах, так будто превращаюсь в любимого мною певца вечерней зари, черного дрозда с золотым клювом. Когда уже от реки туман поднимается, сажусь черным дроздом на самый верхний пальчик высокой ели и пою. Слышит ли кто меня – я не знаю, не для себя я пою, а управляю зарей: свистну по-своему – и все небо разделится на голубое и красное; на иной лад посвищу – и спустятся на красное синие кружева, и так, пока не станет вовсе темно, под свист моего птичьего язычка совершаются непрерывно служебные перемены в цветах.
Может быть, с высоты этой ели дальше видно, чем думают люди. Я свищу и зову любовно всмотреться в эти милые лица: их таких точно еще не бывало на свете, и они в первый раз так сложились. Скорее спешите обрадоваться, а то ведь и они, как эти цвета на заре, немного побудут, и переменятся, и уйдут навсегда.
– Сережа, милый, – говорит она, – толкни локтем окно, дай нам сюда больше воздуху.
Сережа попятился, толкнул локтем окно – и милые люди соединились с природой.
– Такая тишина, – щебечет по-птичьему Милочка, – мне кажется, я никогда такой тишины не слыхала, единственный поет певчий дрозд. Ты видишь его? Вон он, черный на красной заре.
– Вижу, вон сидит на верхнем пальчике елки, это черный дрозд с золотым клювом.
– А погляди, Сережа, как там у реки завертывается туман, будто кто-то большой курит и. дым пускает колечками.
– Это, Милочка, древний птичий бог сел покурить у реки. Ему теперь только и остается курить: самки его уже все сели на яйца.
– Правда, сели. Ну вот, и мы тоже кончили, смотри, какой большой клубок намотали. Как чудесно вечереет, подвинься к окну, давай немного перед сном посидим, помечтаем.
Оба сели к окну на один чурбан и осмерклись, как парочка кур на шестке.
– О чем ты думаешь, Милочка?
– Я думаю, – отвечает она, – что ты был прав: десять кур прокормить – нам нужно в месяц не меньше двух пудов зерна, а мы за полгода для себя едва достали три пуда ржи. Овес же еще труднее доставать. Давай кур променяем на масло и только двух курочек оставим себе для забавы: на двух у нас хватит зерна.
– Придется кормить трех, – отвечает он, – необходимо оставить себе петуха.
– Ах, как же это я про петуха совершенно забыла. Но, как думаешь, может, петуха овсом не надо кормить?
– А чем же кормить петуха?
– Картофельными очистками: ведь ему же легче жить, чем курам, ему не нужно яйца нести.
– Не все же в яйца, – отвечает Сережа скупой хозяйке, – не в одном этом труд. Раз я видел, как поет черный дрозд свою брачную песнь ранней весной: от усилия у него дрожит каждое перышко.
– Правда твоя, Сережа, я никак не могу отвыкнуть думать по-бабьи: все начинать от себя и проводить все через себя. Надо думать, как ты, по-мужски: смотришь не в себя, а на какого-то дрозда, и выходит правдивее и шире.
– Милочка, но ведь прежде, чем смотреть на дрозда, я тоже подумал о себе и свое собственное увидел в дрозде. Этому нам и нужно учиться у вас: смотреть на все через себя.
– А нам учиться у вас – смотреть правде в глаза. Нам бы нужно с тобой соединиться в одного человека.
Мало-помалу совершенно погасла вечерняя заря, черный дрозд прекратил свою песню и с высокого дерева, прежде чем улететь, последним свистом объявил ночь. Тогда древний бог, наказавший человека изгнанием, возвратил этим двум у окна свое благоволение и передал в их собственные руки продолжение великолепного творчества мира, прерванного непослушанием.
XXVIII. У калитки
Когда кончилась заря, и ночь наступила, и все улеглось спать в полной тишине, по радио передавали сводку информбюро, и в следующих за сводкой комментариях приводился страшный случай, когда в нашей батарее осталось одно орудие без прицела с единственным снарядом, и единственный уцелевший человек увидел, что танк «тигр» пошел прямо на него. В это время перед сном своим я принял это все на себя: будто это я с единственным снарядом напускаю на себя «тигра», и остается одна секунда, одно только мгновенье до того, как решится все: я или «тигр»…
Вот в это мгновенье громкий в тишине стук палки в чью-то калитку отвлек мою мысль сердечную в ее страшной борьбе с этим «тигром». И так, наверно, было у многих в поселке: каждый о чем-нибудь думал и каждого оторвал от себя этот стук, настойчивый, упорный.
«Не у нас ли это стучат», – подумала Наташа, встала с постели и поглядела в окно. Там чуть видна была своя калитка, и никого как будто не было: стучали не к ней, а скорее всего к Милочке. Новый муж Наташи крепко спал, и она, укладываясь рядом с ним на кровати под огромным фикусом, подумала о Милочке, что, может быть, это муж ее пришел с войны и стучится.
И только легла Наташа рядом со своим мужем, вдруг с новой силой раздался стук как будто не у Милочки.
«Возможно, – подумала она, – в темноте по ошибке туда постучался, а оттуда послали сюда».
И тут еще пришло в голову, что покойный муж, пропавший без вести, Артем, пришел и стучит… Она вся похолодела от страха и сказала себе с полной уверенностью:
– Это он!
И тотчас что-то сообразив, разбудила своего друга.
– Поди скорей, – сказала она, – погляди, кто там в калитку стучится, только хорошенько расспроси, не сразу впускай.
И как только он вышел, сама быстро вскочила, босая бросилась скорее к окну. Затем она и выслала нового мужа, чтобы не было стыдно и страшно, если старый муж сразу войдет в спальню на прежних правах.
Выглянув из окна, она сразу поняла, что это болезненный страх стучит ее сердцем и никого нет у калитки. Александр Филимоныч, вернувшись, определенно сказал, что это к Милочке стучат.
– Не муж ли это к ней вернулся? – спросила Наташа.
– Какой тут муж! Алексей Мироныч такой молодец, а это бродяга с палкой, в бороде.
– Борода могла в плену вырасти. Мы же все видели, какой из плена Иван Гаврилович пришел. Поди-ка, поди-ка еще, расспроси его получше, постучи сам к ней со стороны сада: она там спит.
– Так если это ее муж вернулся, – ответил Александр Филимоныч, – как же ему-то не знать, где постучать: он ведь первый рубил себе дом, и еще своими руками.
– Что ты говоришь! Вспомни, какой Иван Гаврилович пришел. Там, видно, человек совсем перегорает и приходит другим. Помнишь, как первые дни все мы думали, что Иван Гаврилович вовсе лишился ума. Поди-ка, поди, слышишь, опять этот стук…
От этих разговоров сон так разлетелся, что хоть вставай и берись за работу. Но Наташа, услав мужа, улеглась опять и, раздумывая, дивилась легкомыслию Милочки, хотя и вся разница в их положении была, что она получила бумажку о смерти, а Милочка не получала. Вся совесть Наташи держалась теперь на какой-то бумажке, и даже очень бы прочно держалась, если бы не это чудесное возвращение Ивана Гавриловича.
– Ну что, что ты видел? Говори скорей, – сказала она, когда Александр Филимоныч вернулся и спокойно стал раздеваться.
– Спрашивал я бродягу, – сказал он.
– Так это не Алексей Мироныч?
– Да какой там, – просто бродяга, и как мертвый дуб молчит. Я обошел дом, постучал в спальню. Милочка крикнула мне в окно: «Слышу!» – и я удалился. А когда прошел улицу и обернулся – бродяги возле дома не было.
XXIX. Голубой гость
Лукавый не искушал Милочку, она спала и не слышала стука. А Сережа, начитавшись взятого у меня Гоголя, видел, будто он, как Вакула-кузнец, в ночь под Рождество перекрестил лукавого и на пойманном черте мчится к царице за черевичками для своей Милочки.
Не самый стук разбудил Милочку, а одеяло съехало как раз в то время, когда постучали в окно, и через этот близкий стук она услыхала стук у калитки.
– Сережа, – разбудила она своего друга, – поди, милый, погляди, там кто-то к нам в калитку стучит.
И пока Сережа ходил и там с кем-то у калитки разговаривал, она, на сон очень крепкая, успела вздремнуть, и в короткий миг, как это бывает во сне, смешалось время, и она в миг один насмотрелась столько, чего в наше обыкновенное время не уложить и в сутки.
– Погоди, погоди, – пробормотала она вернувшемуся Сереже, – дай мне сон досмотреть.
– Милочка, – сказал Сережа, не обращая на ее просьбу внимания, – там пришел к нам человек ужасно усталого вида.
– Нет, нет, – ответила, не проснувшись совсем, Милочка, – это пришел прекрасный человек: у него голубая рубашечка из сатина, ворот отстегнут.
– Проснись, Милочка, какой там голубой, весь измученный человек, и слова ему из себя выжимать очень трудно. Но я понял с трудом: он просится ночевать.
– Пусти же его.
– Как пусти! Невозможно такого пустить. Я сказал: «Места нет». – «Как нет? – говорит, – у вас две комнаты». – «А ты, – спрашиваю, – почем знаешь?» – «Пустите, – говорит, – и покормите скорее». – «Картошки, – отвечаю, – я тебе принесу». – «Хоть картошки». – «А ночевать у нас не на чем». – «У вас на чердаке есть раскладная кровать, принеси мне ее». – «Ты почем, – говорю, – знаешь?» Молчит.