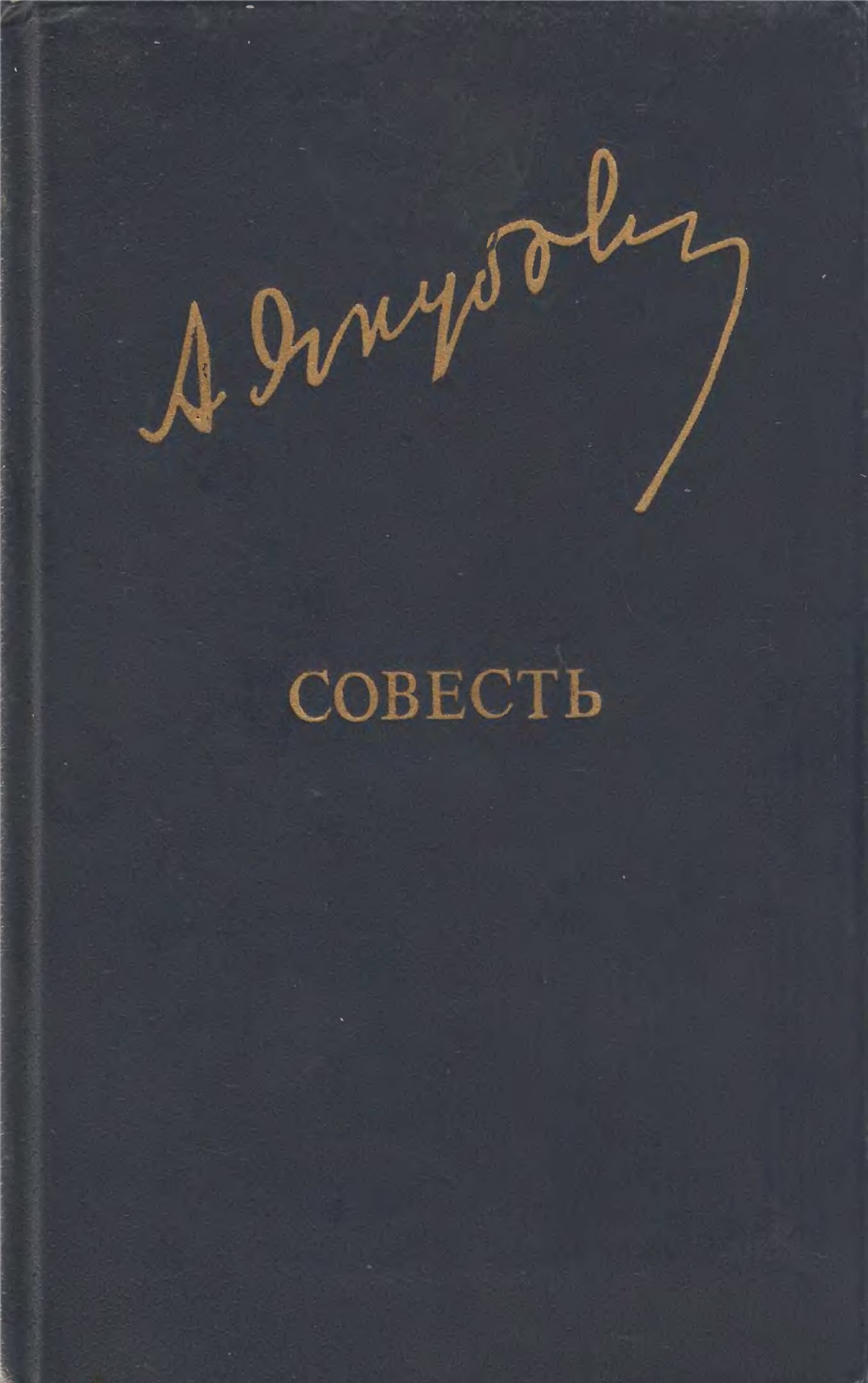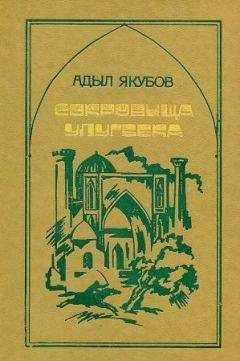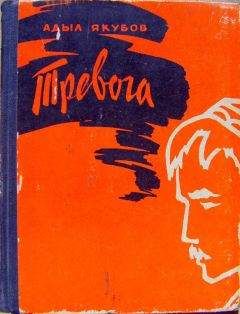не смог сосредоточиться. Он приоткрыл глаза, и последнее, что увидел в своей жизни, был Саид Аббас, в яростном замахе вознесший над ним, полуживым-полу-мертвым уже, кривую саблю.
Последнее, что успел подумать Улугбек, было: «За что, создатель?»
И еще: «Прощай, Али, сын мой…»
Мавляна Мухиддин охвачен предчувствиями тяжкими, неясными и потому особенно устрашающими.
После хуфтана — последней молитвы, свершаемой правоверными перед заходом солнца, мавляна вознамерился было прилечь. Но стук в дверь поднял его с постели. Наспех одевшись, Мухиддин со свечой в руке пошел открывать. Замирая от страха, приподнял засов: на пороге стоял отец, Ходжа Салахиддин. Он тоже держал свечу, но одет был совсем иначе, нежели сын, — в белой чалме поверх остроконечной тюбетейки, в златотканом халате, будто собрался на некое торжество. Только вид у Ходжи Салахиддина был не обычный торжественно спокойный, а такой, словно ювелир торопился на пожар. Он задул свечу, быстро прошел в комнату, но на почетное место не сел, а, стоя, кивнул сыну — закрой дверь! Мавляна набросил цепочку, молча взглянул на отца: колючие глаза Салахиддина приказали подойти ближе. Мухиддин почувствовал холодную дрожь.
— Твой любимый учитель… Мирза Улугбек, сын Шахруха, покинул сей бренный мир, — прошептал ювелир внятно и многозначительно.
Серебряный подсвечник беззвучно упал на тонкий шелковый ковер: мавляне Мухиддину недостало сил удержать его. Отец быстро нагнулся, схватил горящую свечу, поднес ее к бледному лицу сына.
— Ты понял, что я сказал?
— Когда это случилось? — тоже шепотом спросил мавляна.
— Вчера ночью… Его обезглавили!
— Кто?
— Кто?! — Ходжа Салахиддин рассмеялся ядовито. — Кто в силах был это сделать, тот и сделал… Его же отпрыск кровный, шах-заде Абдул-Латиф!
— О, милосердный аллах!
— Теперь жди, пойдет резня! — ювелир сказал это убежденно и уже не приглушая голоса. Словно еще больше запугивал сына. — Теперь, говорю я, все родственники, все близкие бывшего властителя, все его учителя-нечестивцы и шагирды его, все, все теперь испытают на себе гнев победителя шах-заде, всех он покарает, в темницы упрячет, в изгнание рассеет!
— За что же, отец?
— «За что же»? — Ходжа Салахиддин передразнил робкий шепот сына. — Вы же ученый муж, о мавляна, и не догадываетесь, за что? А разве когда-нибудь было иначе? Старый халат не для плеч нового владельца. Да и зачем он ему?.. Многих, многих шах-заде покарает, иные и обезглавлены будут, подобно покойному Мирзе Улугбеку.
Мавляна Мухиддин едва стоял на ногах — не будь здесь отца, который по-прежнему не садился и не приглашал сына сесть, он бросился бы на постель, зарылся бы в подушки: не видеть ничего, не слышать про все эти ужасы!
Мавляна закрыл глаза, зашептал молитву, поднеся руки к лицу.
Салахиддин-заргар чуть-чуть смягчился.
— Тысячу и тысячу благодарностей аллаху за то, что надоумил меня не порвать с шейхом Низамидднном Хомушем. Шейх был и остался моим пиром. А поверил бы и я… как ты, этому безбожному султану… не знаю, что спасло бы нас теперь… Я сейчас… да, да, на ночь глядя, отправлюсь к светлейшему шейху. Надеюсь, что и тебя позовут. И ты пойдешь! И бросишься к его ногам, умоляя о прощении грехов. Плакать должен и каяться, говорить, что шайтан сбил тебя с пути. И что уповаешь на милость аллаха! Понял, что я сказал?.. Не стой, как пень, отвечай!
— Понял, благословенный…
— И скажешь еще, что давно отошел от всех мирских дел, от научных занятий, от сего бренного мира отошел… тайно, в душе, да боялся в том признаться еретику султану…
— Благословенный, нужно ли такое? Ведь от повелителя — да пребудет душа его в райском саду! — мы видели только добро…
— Много добра видел?! Ну, тогда поднимись на минарет соборной мечети и кричи о том на весь Самарканд! — Салахиддин-заргар сжал кулаки, точно собирался ударить несогласного. — Видел добро? Безмозглый! А притеснения их? А Абдул-Азиз, да будет уготован ему ад?! Иль Хуршида не твоя дочь, это дитя, вымоленное мной у аллаха, светоч моих глаз, бутон моего цветника?
Мухиддин отвел взгляд от горящих яростью глаз отца. Медленно шевеля губами, произнес:
— Повелитель был в неведении о злодейских планах шах-заде.
— «Был в неведении»!.. Это ты в неведении! Тайны вселенной они познали, — издевательски рассмеялся старик. — Ничего вы не познали! И жизнь ты знаешь, мудрейший из мудрых, меньше темного простолюдина… Так запоминай, что говорят неглупые люди: завтра начнется резня и первой скатится твоя голова! Среди иных безбожных голов — твоя первой скатится, и дом твой будет первым предан огню! Первым!
Сын покачнулся, с трудом удержался на ногах, схватившись за спинку кресла. Ходжа Салахиддин поддержал его под локоть, усадил. Из ниши стенной вынул чайник и пиалу. Налил чаю Мухиддину. Тот, стуча зубами о край пиалы, сделал несколько глотков. Отец, остыв, пристальнее вглядывался в лицо сына.
— Прости меня, если так тяжелы оказались для тебя мои слова. Но думаю я не о себе — о тебе, о доме твоем, о семье… Над нашим домом черные тучи… Ты говоришь: вы видели хорошее. Верно, видели и такое от наследников эмира Тимура — вот уж чья душа пусть возрадуется в раю! — видели мы всякое. И плохое тоже. А начнет шах-заде разыскивать людей, близких к отцу своему, найдутся доброхоты, укажут на тебя первого, на нас с тобой… Ты же не ребенок, думай как взрослый!
Мавляна Мухиддин сидел, подавленный, недвижный. В слабом свете свечи лицо его казалось безжизненным. Ходжа Салахиддин скрыл тревогу за привычной суровостью и решительностью:
— Ну, я пошел к пиру… Если он вызовет тебя — утром ли, ночью ли, тут же прибудешь и скажешь шейху все, что надо. Так, как я тебе велел. И запомни: у нас нет другого выхода!
Нарочито четкими шагами Салахиддин-заргар направился к двери.
Еле доплелся до постели мавляна Мухиддин после ухода отца, разбитый и обессиленный, свалился на ложе. Не мог заснуть всю ночь. Стоило закрыть глаза — и в воображении представал устод Улугбек, закрывающий голову руками от занесенной над нею сабли… Голова устода, залитая кровью, катилась в пыли и прахе по земле, вращая глазами и что-то шепча, казалось, обращаясь к нему, Мухиддину.
Тогда вскакивал мавляна с ложа — в ужасе, еле сдерживаясь, чтобы не закричать. И ходил, ходил по комнате до полного изнеможения. Но стоило лечь в постель, и снова видения преследовали его. Он и клял себя за слабость, за готовность сделать так, как велел отец, и убеждал в том, что именно так надо поступить,