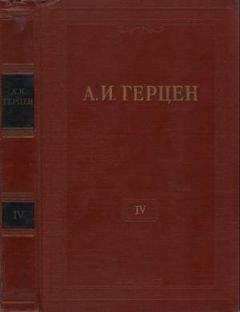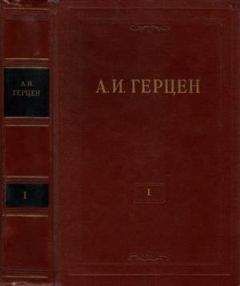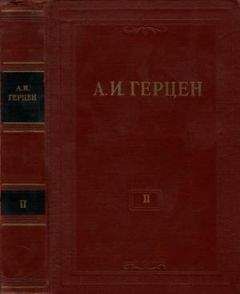– Дмитрий Яковлевич, вы-то что же пуншику-то с лимончиком?.. Ну, что, право, сидите голову повеся, сами не пьете, другим мешаете.
– Вы знаете, Иван Афанасьевич, что я никогда не пью.
– И знать, любезнейший мой, не хочу такого вздору, пьешь не пьешь, а с друзьями выпить надобно; дружеская беседа, да… Пелагея, подай стакан пуншу да гораздо покрепче.
Последнее замечание, вероятно, хозяин основал на том, что Круциферский и послабже не хотел.
Принесла Пелагея стакан кизлярки, в которой лежал, должно быть, мертво пьяный кусок лимону и в которой бесследно пропали несколько чайных ложек кипятку. Круциферский взял стакан, чтоб отделаться от хозяина, в надежде, что найдет случай три четверти выплеснуть за растворенное окно. Это было не так легко, потому что Медузин, посадивши кого-то за себя поиграть в бостон, подсел к Круциферскому.
– Вот, Дмитрий Яковлевич, я тебе искренне скажу, ты меня обязал, истинно дружески обязал, а то как в твои лета, сидишь дома назаперти; конечно, у тебя есть там хозяюшка молодая, ну, да ведь надобно же и в свет-то иной заглянуть. Ну, дай же, Дмитрий Яковлевич, я тебя за это поцелую, – и, не дожидаясь разрешения и несмотря на то, что от него пахло точно из растворенной двери питейного дома, вылитографировал довольно отчетливо толстые губы свои на щеке Круциферского. А вслед за тем, не говоря худого слова, обнял Дмитрия Яковлевича и Кафернаумский, с которого пот лился ручьями. Желая просушить лицо, без явной обиды собрату по просвещению юношества, Круциферский отошел в угол и вынул платок. Спиною к нему стоял неутешный вдовец и учитель французского языка с Густавом Ивановичем, учителем немецкого языка, который в сию минуту был налит пивом до конца ногтей и курил трубку с перышком. Ни тот, ни другой не заметили Круциферского и продолжали вполголоса разговор. Само собою разумеется, что Круциферскому вовсе не хотелось подслушать, что они говорят, но фамилия Бельтова, произнесенная довольно громко, рядом с его собственной, заставила его вздрогнуть и инстинктивно прислушаться.
– Это старый штук, – говорил француз, посгладивши как-то все русские буквы, – и если Адан не носил рок, то это оттого, что он бил одна мушина в Эден.
– Та, – отвечал Густав Иванович, – та! Этот Пельгтоф, это точна Тон-Шуан, – и через минуту громко расхохотался; минуту эту, по немецкому обычаю, он провел в глубокомысленном обсуживании, что сказал французский учитель об Адаме; добравшись, наконец, до смысла, Густав Иванович громко расхохотался и, вынимая из чубука перышко, совершенно разгрызенное его германскими зубами, присовокупил с большим довольством: «Ich habe die Pointe, sehr gut!»[51]
Но наибольшее действие этот рассказ сделал не на Густава Ивановича, а на человека, который почти не слыхал его, т. е. на Круциферского. Что это значит – эти две фамилии, рядом поставленные? Да как же это, неужели страшная тайна, которую он едва подозревал, в которой он себе не смел признаться, сделалась площадною сплетней? Да точно ли они говорили это? Конечно, говорили, – и вот они стоят еще на том же месте, и Густав Иванович продолжает хохотать… Круциферскому показалось, что у него в груди что-то оборвалось и что грудь наполняется горячей кровью, и все она подступает выше и выше и скоро хлынет ртом… Голова у него кружилась, перед глазами прыгали огоньки, он боялся встретиться с кем-нибудь взглядом, он боялся упасть на пол – и прислонился к стене… Вдруг чья-то тяжелая рука схватила его за рукав; он весь содрогнулся; что еще будет? – думал он.
– Нет, любезный Дмитрий Яковлевич, честные люди так не поступают, – говорил Иван Афанасьевич, держа одной рукой Круциферского за рукав, а другою стакан пуншу, – нет, дружище, припрятался к сторонке да и думаешь, что прав. У меня такой закон: бери не бери, твоя воля, а взял, так пей.
Круциферский, долго всматриваясь и вслушиваясь, – вроде того, как Густав Иванович изучал замечание французского учителя, – наконец, смутно понял, в чем дело, взял стакан, выпил его разом и расхохотался.
– Вот люблю, можно чести приписать! Каков? А говорит – не пью, экой хитрец! Ну, Дмитрий Яковлевич, Митя, выпей еще стаканчик… Пелагея, – присовокупил Медузин, вытаскивая из стакана Круциферского собственным (обходительным) пальцем своим кусок лимона, – еще пуншу да покрепче… Выпьешь?
– Давайте.
– Браво, браво!..
И Медузин только потому не поцеловал Круциферского, что рот его был занят лимоном, который он съел с кожей и с косточками, прибавляя в виде объяснительной комментарии: «Кисленькое-то славно, когда фундамент выведен».
Пунш принесли, Круциферский выпил его, как стакан воды. Никто не заметил, что он был бледен, как воск, и что посинелые губы у него дрожали, может, потому, что гостям казалось, что весь земной шар дрожит.
Между тем, как дело шло на пульку, неутомимая Пелагея принесла на маленький столик поднос с графином и стаканчиками на ножках, потом тарелку с селедками, пересыпанными луком. Селедки хотя и были нарублены поперек, но, впрочем, не лишены ни позвоночного столба, ни ребер, что им придавало особенную, очень приятную остроту. Игра кончилась мелким проигрышем и крупным ругательством между людьми, жившими вместе целый бостон. Медузин был в выигрыше, а следовательно, в самом лучшем расположении духа.
– Полноте, полноте! – кричал он. – Пойдемте-ка лучше да с божьим благословением хватимте кантафресного.
Иван Афанасьевич постоянно называл настойку кантафресным, почему – не знаю, но полагаю, по достаточным и верным латинским источникам.
Гости отправились к столу.
– Дмитрий Яковлевич! Уж, верно, ты не откажешься и от кантафресного?
– Давайте и кантафресного, – отвечал Круциферский и опрокинул в горло огромную рюмку пенника, испорченного разными травами, отвратительными на вкус и полезными, как думают легковерные люди, для желудка. Восторг гостей был неописанный; но Пелагея принесла баснословной величины пирог с визигой… Я, впрочем, полагаю, что мы довольно ознакомились с характером валтасаровского празднества, которым Медузин праздновал свое тезоименитство; тем более не считаю нужным описывать продолжение его, что могу уверить читателей в том, что праздник продолжался совершенно в том же направлении и на тех же основаниях.
На другой день Круциферский имел длинный разговор с Любовью Александровной; она поднялась в его глазах опять так высоко, так недосягаемо высоко; он был способен понять и оценить ее… но что-то отлетело между ними, и страшная мысль: «об этом говорят» – уничтожала его. Он, впрочем, насчет этого не сказал ей ни слова; ему было тяжело с ней говорить, и он торопился в гимназию; пришедши туда прежде окончания другой лекции, он стоял у окна в рекреационной зале. Давно ли он так спокойно смотрел из этого окна, давно ли, на верху человеческого счастия, он так торопился бежать домой? И вдруг все переменилось: он хотел бы бежать из дому… и между тем он был подавлен ее величием и силой, он понял, что она страдает не меньше его, но что она скрывает эти страдания из любви к нему… «Из любви ко мне! Но разве она любит меня, разве можно любить бревно, лежащее на дороге к счастью?.. Зачем я не умел скрыть, что все знаю; если б я был осторожнее, она не столько бы страдала; а я все сделал бы, чтоб она была счастлива; но что же делать; бежать, бежать – куда?..»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Его остановил Анемподист Кафернаумский. Он, видимо, еще не оправился от вчерашнего раута; глаза у него были красны и окружены каким-то пухлым кругом, как бывает луна зимою в морозные дни; на щеках и носу проступали сизые пятна.
– Что, почтеннейший, – сказал Кафернаумский, отирая пот с лица, – трещит?
Круциферский промолчал.
– Я сам едва жив.
Видала ль ты обломки корабля?
Видала, но почто? Се жизнь теперь моя… Каков-с Медузин-то? Старый пес, расходился как! Да вы, Дмитрий Яковлевич, поправлялись? То есть, клин клином-то…
– Как, поправлялся ли?
– А вот я вам покажу как; и видно, что еще новичок! Пойдемте-ка ко мне. Я ведь тут возле живу, –
Ради рома и арака
Посети домишко мой.
Круциферский отправился к Кафернаумскому. Зачем? Этого он сам не знал. Кафернаумский вместо рома и арака предложил рюмку пеннику и огурцы. Круциферский выпил и к удивлению увидел, что, в самом деле, у него на душе стало легче; такое открытие, разумеется, не могло быть более кстати, как в то время, когда безвыходное горе разъедало его.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Часов в десять с небольшим Семен Иванович Крупов явился в небольшую залу «Города Кересберг» и принялся прохаживаться взад и вперед, с лицом озабоченным и сердитым. Минут через пять дверь из комнаты Бельтова отворилась, и вышел Григорий, со щеткой в руке и с пальто на руке.
– Что, небось еще спит?