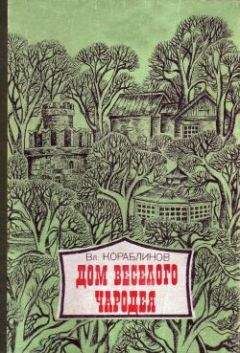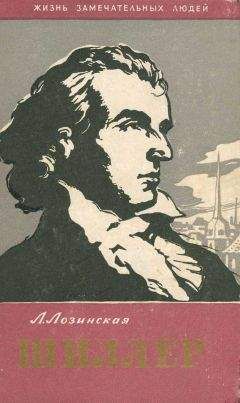Может быть, ты теперь, наконец, одумалась? Может, приедешь дебютировать?.. У мужа связи большие… Дорогу тебе расчистим… Подумай, Надя!.. Трудно, конечно, у нас служить. Здесь нужны чиновники, а не артисты. Сердце кровью обливается, как вспомнишь, что твоего товарища сажают под арест, штрафуют, дают нагоняй, как провинившемуся школьнику… И со всеми надо ладить, и ко всем надо подыгрывать, чтобы получить роль… Но, с другой стороны, у тебя дочь, а годы идут… Тяжел твой труд, и горька скитальческая жизнь без своего угла, нынче здесь, завтра там… А впереди старость без обеспечения, без поддержки…
Что сказать тебе о себе?.. Оглядываясь назад, вижу единственные счастливые дни, когда я уехала за границу, подав прошение об отставке, и прожила там до сентября… Понимаешь, Надя? Я гуляла в то время, когда здесь еще все лето напролет мои несчастные товарищи играли, а с августа уже начались усиленные репетиции к зимнему сезону… Наверно, птица, выпущенная из клетки, чувствует себя так же… Я положительно опьянела…
Вернулась домой. Совсем новая жизнь. Муж едет на репетицию, а я ложусь на софу и читаю. Иду гулять на Кузнецкий, пока солнце не сядет. Вечером еду в театр.
Когда я в первый раз шла туда — уже зрительницей, — ты не поверишь, Надя, как я волновалась! До дурноты… Все меня узнавали, все шептались, все глядели в мою ложу. А я сидела там, как знатная дама, и разыгрывала равнодушную. А у самой руки так тряслись, что чуть не выронила бинокль…
Теперь я привыкаю. Хожу на все первые представления, гляжу на прежних товарищей… У Орловой теперь все мои роли… Когда мы были рядом с ней, ей передали Веронику, ей отдали Корделию… Это стоило мне многих слез.
Я знаю, Надя, ты никогда не любила игры Прасковьи. И действительно, таланта у нее нет: есть одно старание… Иногда я внезапно ухожу, ссылаясь на головную боль. Слезы подступают к горлу… Что объяснять? Ты меня понимаешь…
Изредка я иду за кулисы. Все во мне заискивают теперь, конечно, из-за мужа[6]. Сознаюсь, Надя, меня неодолимо тянет в театр. Я тоскую без него. Сколькие из нас вышли замуж и забыли сцену! А я точно отравленная. Все мечтаю вылечиться: уехать навсегда в деревню, жить среди природы, забыть подмостки… У нас такая шумная, суетливая жизнь… Часто бывают гости, играют в карты… Иногда муж споет что-нибудь свое, из новой оперы, или наш соловей Бантышев подарит романсом Булахова, Алябьева или Варламова… Иногда и меня просят спеть. Но мне грустно подойти к фортепианам. Чувствую себя старухой, хочется плакать…
Ты, конечно, помнишь толстого Загоскина, нашего прежнего директора?.. Он вышел в отставку в прошлом году. Его здоровье неважно: одышка, подагра, а лечиться у него нет терпения. Он пишет теперь большой роман из эпохи Петра I… Это, пожалуй, не хуже Рославлева, но куда ниже Юрия Милославского!.. Он, видимо, идет под гору, как и все мы… Вот и мужу после Аскольдовой могилы и Пана Твардовского уже ничего не удается… Его Тоска по родине совсем слаба. Он сердится на меня за это мнение. Но что будешь делать? Видимо, и таланты изнашиваются… Пишут они тут с Шаховским вместе что-то новое. Сюжет волшебный, судя по отрывкам, что я слышала, но мне не нравится эта затея…[7]
Да, все идет под гору. Время не тронуло только таланта Мочалова… Но что будет дальше? Он пьет запоем давно…
Он пережил страшную драму… Не знаю, помнишь ли ты Поленьку Петрову, дочь инспектора театрального училища?.. Она у меня бывала… Мочалов влюбился в нее, она в него. Что удивительного? Она такая красивая, образованная… И она так беззаветно любила его!.. Он бросил жену и открыто жил с Поленькой. Поверишь ли, Надя? Он тогда точно другим человеком стал… Как усидчиво работал! И все над новыми ролями! Как удивительно играл!.. Она его прямо вдохновляла… Но разве жена и тестюшка — этот содержатель кофейни Баженов — могли выпустить из рук такой клад? Они подали жалобу начальству на Петрову, будто она разрушила семейное счастье и обольстила Мочалова… Это не подействовало… Тогда обратились к Бенкендорфу. Он вызвал ее и пригрозил ей ссылкой, если она не вернет Мочалова жене… Она покорилась. Их разлучили, и он снова запил.
Теперь он катится под гору. Ему не за что уцепиться… Здоровье его расстроено, голос часто пропадает… Иногда он по месяцам не может играть. Шаховской его не выносит. Аксаков с ним рассорился. Он утратил все связи и, кажется, очень этому рад… Иногда он бывает невозможен. А иногда великолепен по-старому. В прошлом году он ставил в свой бенефис Ромео и Джульетту… Местами был очень хорош. Но юношеского пламени в нем не чувствовалось. Сцены любви вышли хуже всего. В склепе зато он был бесподобен… Но ведь ты его помнишь? Он никогда не умел носить костюма, как Каратыгин и как теперь носит его наш Самарин… Он никогда не считался с внешностью. И Шевырев в Москвитянине его зло осмеял… В этом году он ставит в бенефис Маскарад Лермонтова. Он ездил два года назад в Киев, играл там месяц с небывалым успехом! Все газеты об этом кричали.
А Москва волновалась, вернется ли?.. Вернулся… Ведь у него дочь… И как встретила его публика! Стены задрожали от криков и рукоплесканий… И каждый год идут эти слухи, что он хочет уйти… начальство рвет и мечет… Только соберутся им щегольнуть перед каким-нибудь высоким гостем, своим или иностранным, — не тут-то было!.. Он невменяем либо не в духе, и получается один конфуз. И что он себе только позволяет! Недавно играл Ричарда III, а Самарин (помнишь нашего хорошенького Жана?) играл принца… Принц спрашивает его:
«К кому такая речь, светлейший герцог?»
— К тебе, темнейший принц… —
отвечает ему Мочалов, скрестив руки на груди и смерив презрительным взглядом Самарина с головы до ног… Тот чуть не упал…[8]
Кстати о Самарине. Он у меня бывает, как и другие товарищи. Знаешь, когда он особенно выдвинулся? В Москву приезжали Каратыгин с женой как раз на Красной горке, когда я уже подала в отставку. Ставили Марию Стюарт Шиллера. Каратыгин играл лорда Лейчестера, жена его — Марию Стюарт, наша Львова-Синецкая — королеву Елизавету… Мортимера играл Самарин. И ты не можешь себе представить, как публика приняла нашего милого Жана!.. Его вызвали прежде, чем обоих Каратыгиных, и я была очень рада за него. Но… могу ли я забыть в этой роли пламенного Мочалова?.. Это была сама молодость, сама страсть…
Мочалов по-старому несет на своих плечах весь героический репертуар. Но… за его частой болезнью, многие роли его переходят к Самарину. И если тот — весь мощь, весь вдохновение, этот — сентиментальность и поэзия. Однако это нравится. Он имеет большой успех. Он добросовестно работает над ролями и наблюдает жизнь. Но… второго Мочалова у нас уже не будет. Дают ход теперь Немчинову. Тоже заменяет кое в чем Мочалова. Но он бесцветен. Это только полезность.
Ты, наверно, теперь забыла Садовникова и его прекрасные глаза?.. А ведь он — будущая знаменитость. Натуры в нем бездна. Темперамент огромный и большая усидчивость. Дирекция в восторге, что он вернулся. Публика любит его. И он удивительно разнообразен. Дали ему роли в водевилях. И оказывается, что никто — даже Живокини — лучше его не поет куплетов… А в провинции играл героические роли…
Ну, еще кого помнишь? Сережу Шуйского, нашего милого Добчинского! Он тоже выдвигается… Мужчины — таланты есть. Но женщины… Боже, какое безлюдье!.. Надя Рыкалова очень мила и образована, совсем барышня, но она годна только на комедии… Я слушала ее чтение не раз. А ей хотят дать дебют. И как муж сообщал мне по секрету, — ее прочат на трагические роли, а Прасковью Орлову думают перевести в Петербург. Видишь, Надя, какой прекрасный случай представляется тебе!.. С твоим именем, после твоих успехов, о которых так восторженно рассказывал Садовников, — дирекция примет тебя с распростертыми объятиями. Я пишу это с согласия мужа. Отвечай скорее! Не допускаю, чтобы ты колебалась теперь… Потом, со временем, и твоему талантливому мужу найдется место в труппе. Не скоро, конечно, дадут ход… Но ты-то выдвинешься сразу. Ты с первого выхода покоришь публику и станешь ее любимицей. Исполнится, наконец, моя заветная мечта видеть тебя в моих ролях.
Господь да хранит тебя! Жду ответа скорей…»
Письмо падает из рук Надежды Васильевны. Она глядит перед собой потемневшими глазами.
Всколыхнулись тени прошлого. Обступили забытые образы… Мочалов, Садовников… Опять видеться ежедневно?.. Опять волноваться, двоиться, страдать… томиться по невозможному, тянуться к недосягаемому?.. Опять терять себя, отнимать у творчества соки нервов и кровь сердца?.. Никогда!