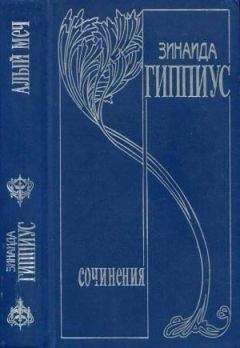Я видел, что этот разговор может завести нас далеко, а потому больше не возражал. Иван Васильевич вернулся к прерванному рассказу.
– Так вот, женился я на Верочке. Вспоминая теперь это время, вижу, что и тогда в ней было что-то не вполне нормальное. Ни истерик, ничего этого, а так, как доктора говорят, – усиленная чувствительность. Думаю, что было. Я ее любил, искренне вам говорю, всей душою. А она – просто и сказать нельзя, что с ней делалось. Говорит, говорит, как любит – а потом даже рассердится.
– Не могу я выразить моей любви. Хочу – и не могу. Помоги мне, если тебе меня жалко.
Я ее успокаиваю.
– Это, – говорю, – у тебя, Веруша, романтизм. Я знаю, что ты меня любишь, и счастлив. Чего же тебе еще?
Удивляться романтизму было нечего: ведь ей еще семнадцати лет не исполнилось; а я уж был не юноша.
Однако она все чаще на меня сердилась. Потом вдруг как-то говорит:
– Ты со мной, как с куклой, забавляешься. Ничего я про тебя не знаю. Скажи, что ты думаешь.
Меня этот упрек обидел, потому что был, коли хотите, справедлив. Но что же делать? Такая молоденькая да хорошенькая, я же влюблен в нее был; первое время после свадьбы… Конечно, я опомнился, прощенья у нее попросил.
– Подожди, – говорю, – все в свое время придет.
А она:
– Дай мне работу какую-нибудь. Мне скучно.
Я и этому обрадовался. Вижу, настоящая будет женщина, человек-женщина. Но пока-то – ведь ребенок сущий. И опять говорю:
– Подожди, все придет. Хозяйством займись, квартирой. С хорошими людьми говори, старайся их понимать. Я тебе книжек из Петербурга выпишу новых, да и старые посмотри, какие у меня есть, почитай.
Она ничего, согласна. Я в разъездах – она домовничает. Городок, где мы тогда жили, похуже был теперешнего моего; застоя больше. Местоположение, однако, наряднее: речка, леса кругом. Квартирку мне удалось сыскать хорошенькую: новый домик, три комнатки – как игрушки. С матушкой протоиерейшей познакомил, с женой члена суда, ну знаете, обыкновенное уездное общество. Милые очень люди есть. В те времена похуже были, посерее, а теперь, вот, скажем, хоть у нас в городе, – прекрасное общество, образованные все и не скучают.
Так вот-с и зажили мы. И год живем, и другой, и третий. Вера совсем обошлась, читает много, книги, газеты мы выписываем, я уж с нею, знаете, как с товарищем дорогим, обо всем, что на душе лежит, разговариваю, по службе там что-нибудь или сомнение – всем с нею делюсь. Она, бывало, все рассудит как следует. И с обществом нашим сошлась, – и так, между городскими мещанами у нее были приятели. А то и по селам окрестным завела знакомства. Приходит, знаете, народ, она со многими говаривала. Я не мешал. Хорошее дело. До барства-то я, можете судить, не охотник. По селам у нас темнота; если Вера поговорит с ними – так ведь, кроме добра, им ничего от этого не будет.
Приезжал к нам чиновник из Петербурга. Прелестный такой человек, знаете, из молодых. Мы с ним очень сошлись, у нас он два раза обедал. Верочка ему рассказывает, как она по деревням ездит, то, другое… Он ее хвалит, тоже о свете и о темноте народной говорит. Я слушал да радовался. Но тут-то, в самую мою отрадную минуту, и случилось мне в первый раз заметить, что с Верой что-то не так. Говорила оживленно – вдруг сразу молчит и задумалась.
– Что ты? – спрашиваю. И гость смотрит.
А она глаза на него подняла и жестко так проговорила:
– Хороши мы, да не очень. Подло живем, подлые дела делаем.
Можете себе представить, как это нас поразило! Я просто не опомнился. И даже понять не могу, о чем она. Чиновник этот – честнейший человек. А уж меня-то она, кажется, знала.
Я не нашелся, что и ответить, а чиновник покраснел, однако сдержался, улыбнулся и любезно спрашивает:
– Что это вы так строги, Вера Ивановна? Что вам не нравится?
Мы за чаем сидели, летом это было. Она из-за стола встала, к окошку подошла, смотрит на улицу, вздохнула и говорит, равнодушно так:
– Нет, ничего, извините… Это я вообще. Не подло то, что мы делаем, а скучно.
– Вам скучно? Но…
– Нет, не мне скучно, а дела эти, и мои, и ваши, скучные. Вы вот о благе человеческом думаете; о чтении книжек по физике, положим. Ну вообразите, что уже все сделалось, и все, – даже Митька-пьяница из Ухабного, – живут, как мы. И знают все, что мы знаем. Ну?
Я даже вскочил.
– Вера! Да о чем ты?
А она продолжает:
– Ну и счастье. Только скучное. Согласитесь, что скучное.
Чиновник ей много кое-чего дельного говорил, широкие мысли развивал – прелестный, красноречивый человек! Она уже не отвечала, будто соглашалась.
После я ее крепко пожурил. Она и мне ни одного слова, точно не ей говоришь. Вспомнил старое, романтизмом ее попрекнул. Усмехнулась и прочь пошла. Дня три я на нее сердился – потом обошлось. Зажили мы по-старому.
Иван Васильевич вздохнул, помолчал немного, точно вспоминая, и опять заговорил.
III
– По-старому – да не по-старому. Заскучала у меня Верочка. Молчит. А если я, бывало, как прежде, начну ей что-нибудь рассказывать, из поездки вернувшись (мало ли что случается у нас, преинтересные вещи), она ничего, я хожу по комнате, – она молчит, следит за мною глазами исподлобья. Неприятный такой взгляд.
– Что ты, Вера?
– Ничего. Говори. Я смотрю на тебя. Очень вы все интересные.
Фу ты, наказанье! И хоть бы объяснила, что с ней. Нет, сидит, и замечаю я постоянно – эдак исподлобья откуда-нибудь за мной следит. Иногда выводила меня из себя:
– Что ты меня наблюдаешь? Роман, что ли, хочешь писать? Пиши. Все-таки занятие.
– Почему же не понаблюдать? Ты интересный тип. Скажет, усмехнется и уйдет.
Однако я ее и жалел. Может быть, и в самом деле ей скучно? Молоденькая, детей нет, я постоянно в разъездах, с протоиерейшей да с членшей какое же особенное веселье? Конечно, я в Вере мечтал видеть истинную женщину, человека, работающего, как я же, посильно для ближнего, для младшего, темного брата; я думал о помощнице… Но она молода. Пройдут ребяческие годы – она свободно примется за дело. А мало ли у нас в глуши истинно святого дела для женщины? Учи да лечи – эти два слова всего стоят.
Однако вижу, Вера у меня скучает. Не зверь я какой-нибудь, не по домострою живем. Чего человек желает для себя – на то он и имеет право. И поговорил я с Верочкой. Она будто обрадовалась. Ну и отлично, думаю.
Отпустил я ее к родным, в губернский город. Оттуда пишет – еду, мол, на месяц с теткой в Москву. Пусть едет, в театрах, думаю, побывает. Три месяца, с Москвой, она проездила, в феврале вернулась. А тут, знаете, как нарочно полк к нам перевели, веселье такое пошло – страх! Весной пикники, верхом, в шарабанах, воинский начальник вечера задает, попадейки даже молоденькие заплясали – две их тогда было у нас.
Вера моя так и летает. Про Москву мне едва рассказала.
– Весело ли было?
– Весело.
– Ну что ж, ты теперь довольна?
– Я? Чем?
Я затруднился.
– Как чем? Вообще… жизнью, что ли…
– Чьей жизнью? Своей?
Просто как-то некстати отвечает. Говорю, однако:
– Не хочешь меня понимать – не надо.
Но она обняла меня, ласково:
– Не сердись, мне весело. А больше ни о чем не спрашивай.
Признаюсь, эти слова мне показались и обидными, и оскорбительными. Не спрашивай! Кто же заботится о ней, устраивает ей жизнь свободную, веселую, праздную, – устраивает, быть может, даже не одобряя ее, лишь в надежде на будущее? И вдруг – не спрашивай! Какие у нее тайны завелись?
Вера точно никогда ни одной книжки не читала. Барынька, ну как всякая, только побойчее. Смелая, на лошадях скачет без устали, до свету танцует в клубе. Один офицер, хорошей фамилии был и красивый, очень за ней ухаживал. Она хохочет, бывало, с ним, от других отстанут или вперед уйдут, – ну, и начали на них поглядывать. Знаете, подавать повод к сплетне – людей в грех вводить. Пойдут этим заниматься.
Как-то вернулись мы домой – я Вере намекнул. Что такое? Вся вспыхнула, глаза злые.
– А ты ревнуешь, что ли?
И, не дождавшись моего ответа, взяла свечу и ушла.
Я подумал: что-то будет? На душе, знаете, скверно, – мутно как-то. В первый раз ночь не спал. Однако преодолел эти глупости, ничего.
А Вера со Столетовым, офицером этим, сразу стала сдержаннее, сама – мрачнее тучи. Я, впрочем, успокоился, все, думаю, обойдется. Жизнь свое возьмет.
Один раз, знаете, возвращаемся мы с Верой от члена суда – вечеринка у него была небольшая, – возвращаемся домой, поздно, улицы пустынные, под осень уж дело, однако тепло. Тучи такие черные громоздятся, луну то прикроют, то опять светлее. Я, признаться, устал, в этот день только из уезда приехал, дело было, а тут эта вечеринка. В карты я не играю, так, дремал больше. Иду домой и молчу. И Вера молчит. Уж совсем перед домом говорю ей:
– А ведь перевод-то мой, Верочка, должно быть, состоится. Городок лучше нашего, к губернскому ближе…