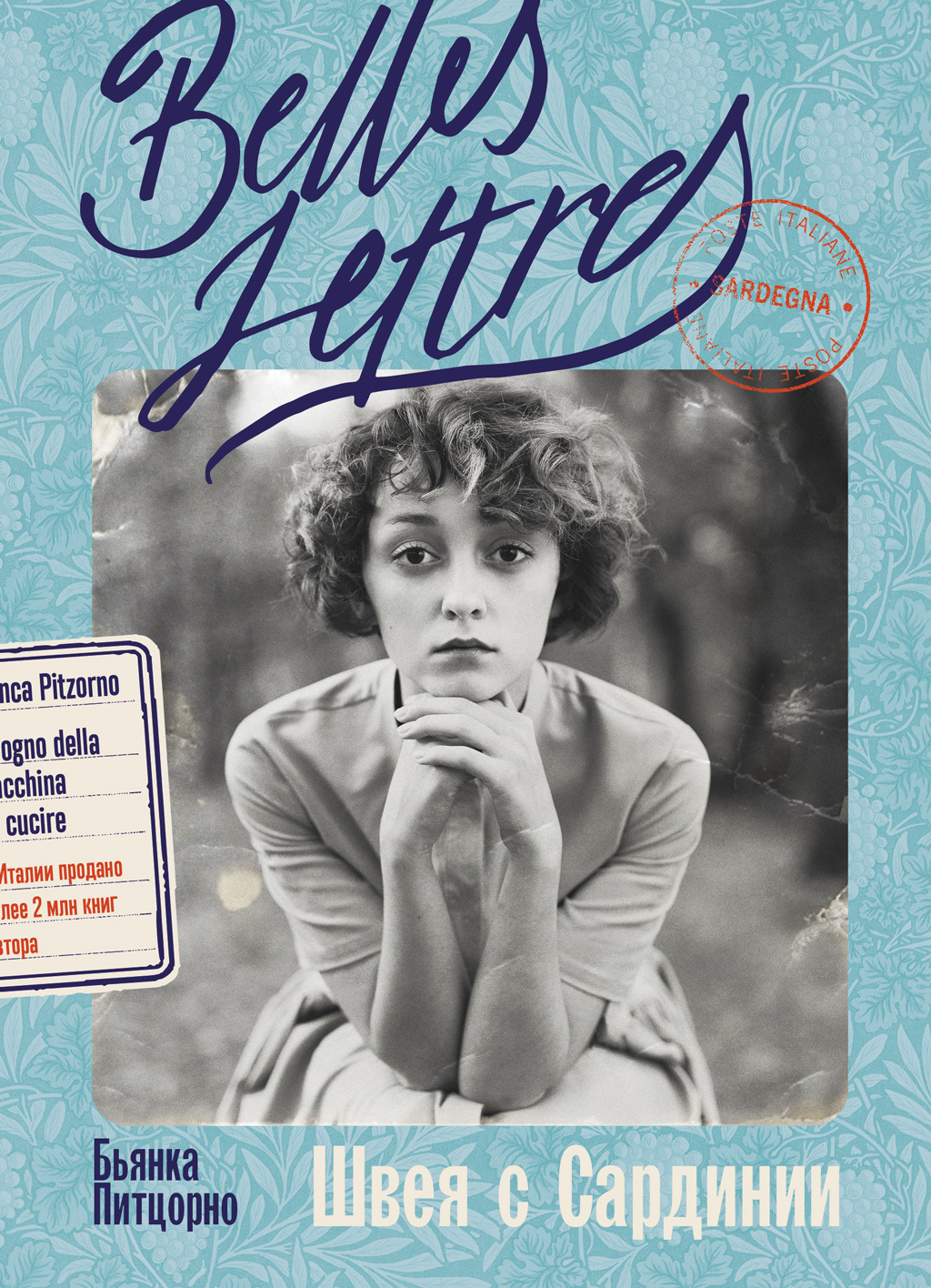бумаги, оставил гроб могильщику. Не было даже священника, чтобы прочесть молитву, – я сама помолилась за подругу, с нежностью коснувшись едва оструганных досок. Затем гроб опустили в заранее вырытую на участке для бедняков могилу. Чтобы найти ее снова, я запомнила номер места, указанный на деревянном кресте рядом с именем. Плакать не получалось: внутри будто все заледенело, и случись мне уколоться иглой или вышивальными ножницами, боли бы даже не почувствовала.
Потом я, как обычно, заскочила проведать бабушку и мисс, похороненных недалеко друг от друга. Но сделала это скорее инстинктивно, по привычке, мыслями блуждая совсем в ином месте. А выйдя за ворота, вместо того чтобы повернуть к дому, непроизвольно, нисколько не задумавшись о последствиях, направилась в приют Девы Марии-отроковицы. Утро было уже в разгаре, и ворота оказались открыты. Когда я попросила секретаря позвать Ассунтину, мне сказали, что девочку освободили от занятий и сейчас она в часовне, где священник читает короткую поминальную службу в память о Зите. То, что сообщать о кончине Зиты пришлось не мне, уже было некоторым облегчением.
Ассунтина сидела одна на передней скамье. Дюжина монашек у нее за спиной высокими, чуть гнусавыми голосами тянули латинский гимн, вероятно, умоляя даровать усопшей прощение и покой. Я ждала, когда они закончат, и была благодарна им и священнику за букетик цветов на алтаре, за фимиам и песнопения. Но чувствовала, что Ассунтина не должна оставаться в этом месте.
Обернувшись и заметив у дальней скамьи меня, Ассунтина недоверчиво нахмурилась. Монашке даже пришлось подтолкнуть ее, чтобы она подошла со мной поздороваться. Я же лихорадочно искала предлог забрать малышку. «Я бы хотела отвести ее на кладбище, попрощаться с матерью». Они дали разрешение, отпуская ее под мою ответственность, и велели не задерживаться и привести девочку обратно к обеду.
Тащить ее, правда, пришлось чуть ли не силой, крепко держа за потную ладошку, чтобы она от меня не улизнула. Она еле волочила ноги и шла за мной нехотя. И даже на кладбище продолжала дуться. По пути я собрала по обочинам небольшой букет диких цветов и велела Ассунтине положить его на свежий могильный холмик. Потом мы с ней прочли короткую молитву. Мне показалось, что, чем читать «Реквием» по усопшей матери, лучше было попросить о даровании дочери ангела-хранителя: «Просвети и от всякого зла сохрани, наставь делать дела благие и на путь спасения направь сию отроковицу, ибо нет у нее никого в этом мире». А уже уходя с кладбища, у самых ворот, я ухватила ее за подбородок и приподняла обиженное личико.
– Знаешь что? Не поведу я тебя обратно в приют. Домой пойдем.
Бумагами я решила заняться после обеда, поскольку не сомневалась, что в приюте только вздохнут с облегчением, если место освободится.
Переступив порог моей квартиры, Ассунтина огляделась, и ее сердитая мордашка потихоньку смягчилась. Ничего не зная об обыске, она могла только гадать, почему часть мебели передвинута, а другая и вовсе исчезла. О кольце я ее не спрашивала – признаюсь, в тот момент я даже о нем не думала: слишком уж была растрогана и вместе с тем встревожена ответственностью, которую мне теперь предстояло нести. Синьорина Эстер, конечно, не обрадуется. Она была так добра ко мне, я же только и делала, что пренебрегала ее советами, разочаровывала ее. А Гвидо, как он отреагирует на мое поспешное решение? Может, стоило сперва спросить его?
Девочка медленно обходила квартиру, касаясь то одного, то другого предмета, словно узнавала их на ощупь, как слепая. В какой-то момент она открыла ящик с журналами, чтобы проверить, на месте ли они, и увидела лежащие сверху переводные картинки. Она не знала, что это такое, но яркие цвета сразу притягивали взгляд.
– Они твои. Видишь, что написано? – спросила я. Она с трудом, по слогам, прочла записку Гвидо. – Тебе надо будет поблагодарить его за подарок.
– Так это он подарил тебе кольцо?
– Да. Кстати, не хочешь все-таки сказать, куда ты его дела?
Она не ответила: замерла, недовольная и растерянная, у своей кровати, придвинутой теперь к стене, – ни одеяла, ни простыней, один свернутый матрас.
– Потом застелем, с утра я просто не успела. Поможешь мне? – спросила я. – Или ты уже хочешь спать? Может, съешь что-нибудь? Обеденное время давно прошло, ты, наверное, проголодалась. Сейчас разогрею тебе супа, поедим, а после ляжем. Я тоже очень устала.
– Значит, я могу остаться?
– Да.
– И ты больше меня никуда не отправишь?
– Нет.
Она ничего на это не сказала. Впрочем, зная ее, я ничего и не ждала – даже благодарности. И уж точно не ждала того, что случилось дальше.
Ассунтина, опустив глаза, решительно бросилась в гостиную, прямо к швейной машинке. С неожиданным для меня проворством сдвинув крышку челночного отсека, она сунула пальцы внутрь, откинула колпачок и, вытащив шпульку, протянула ее мне на раскрытой ладони. Только это была не шпулька – это было кольцо.
Оно все время лежало там, буквально у меня под носом. Сказать по правде, в челночный отсек я не заглядывала: мне и в голову не приходило, что Ассунтина наблюдала за тем, как я шью, а оставшись дома одна, упражнялась, разбирая машинку. Что же до полицейских, которые с самого начала осмотрели машинку с большим интересом, то они попросту ничего не поняли; никто из них не подумал, что эта деталь может быть по́лой и выниматься из своего отсека. Вероятно, они даже пытались ее достать, но забыли поднять рычажок, который, если не разбираешься в швейных машинках, выглядит так, словно является частью шпульного колпачка или намертво к нему припаян.
Похоже, именно это и хотела показать мне во сне бабушка, обматывая вокруг пальца цепочку. Когда нижняя нитка кончается, нужно заменить шпульку, но сперва придется вытащить ее из колпачка и только потом надеть на шпиндель, чтобы намотать нитку по новой.
Бабушка знала, что Ассунтина подменила шпульку кольцом.
Милая моя бабушка, ты ведь и сама знаешь, что времена меня ждут непростые. Будь же моим ангелом-хранителем, бабушка: просвети и от всякого зла сохрани, наставь делать дела благие и на путь спасения направь.
С тех пор прошло пятьдесят лет. Мир изменился. Я стала свидетельницей двух войн, но милостью Божией осталась жива, не растеряла остроты зрения и по-прежнему шью, пусть и только для своей семьи. Тебе, читатель, конечно, интересно узнать, что случилось со мной после тех событий, о которых ты только что прочитал, и зачем я рассказала тебе эти давние истории, которые мне самой кажутся произошедшими словно бы с кем-то другим, а вовсе не со мной.
Ближе к концу июля, едва получив диплом, в Л. вернулся Гвидо. Только когда мы снова были вместе и я наконец-то смогла взять его за руки, заглянуть в глаза, у меня хватило духу рассказать, как его бабушка поступила со мной и как в стародавние времена поступила с Кирикой, чтобы удержать дона Урбано дома. Впрочем, я всегда верила, что Гвидо об этом неизвестно: никогда еще мой избранник не выглядел таким потрясенным, таким рассерженным. Порвав все отношения с донной Личинией, он переехал на съемную квартиру, которую выбрал в одном из унаследованных Кирикой домов, и обставил так, чтобы после свадьбы мы смогли жить там вместе с Ассунтиной, присутствие которой принял без колебаний. Разумеется, с рождением детей нам пришлось бы перебраться в квартиру побольше, но даже и сейчас две комнаты предназначались под мастерскую: зная мою гордость, Гвидо не просил меня бросить шитье. Сам он, благодаря протекции отца Клары, нашел работу на строительстве водопровода.
Вскоре я познакомила Гвидо с моей синьориной; ей он сразу понравился, а главное, смог убедить в серьезности своих намерений. И все-таки Эстер посоветовала нам переехать в Г., где нас не знали и жизнь могла сложиться куда проще. Но Гвидо тоже был человеком гордым. Он ответил, что не видит причин скрываться и с самого начала нисколько не боялся появляться со мной рядом.
Мы сделали ошибку, не поженившись сразу. Но ему хотелось традиционной помолвки, чтобы мы успели лучше узнать друг друга, хотелось спокойно подготовить пышную свадьбу, хотелось, наконец, показать бабушке и самым знатным семьям города, что он выше предрассудков и что женщина, которую он выбрал, ничуть не хуже их дочерей.
Я по-прежнему жила с Ассунтиной в двух своих комнатках, но мы виделись каждый день. Мы были молоды и любили друг друга. Не скрою, он желал меня, и я тоже научилась желать его