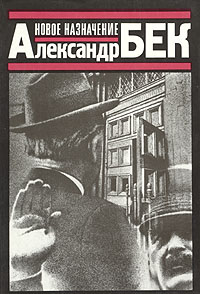своего рода передней комнатке — на театральном диалекте она зовется аванложей, — отделенной от стульев тяжелой темно-зеленой занавесью, стояли Иван Тевадросович Тевосян и его жена Ольга Александровна, очевидно, тоже только что приехавшие.
Смуглый, низкорослый, с черной до глянца шевелюрой нарком металлургической промышленности радушно приветствовал вошедших. Черные, словно нанесенные тушью небольшие усы делали по контрасту особенно выразительной его белозубую улыбку.
Ольга Александровна тоже улыбалась. Легкий розовый шарф обвивал в меру полную шею. Русые волосы не были аскетически гладко зачесаны, но и не взбиты. Она поправила их перед висевшим тут же зеркалом, не сочла этого для себя зазорным.
Невольно Онисимов сравнил Ольгу Александровну, тоже избравшую смолоду профессию партийного работника, со своей женой. Обе были деятельницами, но сухость, свойственная Елене Антоновне, не наложила своего отпечатка даже и в черточках внешности на спутницу жизни Тевосяна. Глядя на нее, уже мать двоих детей, Онисимов в который уже раз втайне пожалел, что у него нет своего ребенка (в ту пору Андрейки еще не было в помине, лишь два года спустя, в дни войны ему суждено было родиться).
Минуту-другую спустя женщины ушли за ниспадающую складками ткань на свои места. Гул многоярусного огромного зрительного зала глуховато доносился в аванложу. Два наркома присели на диван. Здесь разрешалось курить, о чем свидетельствовала пепельница на низком столике и почти незаметная, вмонтированная в стенку решеточка вентиляционной тяги. Заядлые курильщики, оба не пренебрегали возможностью сделать на скорую руку несколько затяжек.
Онисимов поздравил Ивана Тевадросовича. Впервые за много-много месяцев наркомат Тевосяна выполнил, наконец, в истекшем октябре план по чугуну. А еще год назад работа заводов была столь разлажена, что металлургия не давала и восьмидесяти процентов программы. Соответственно упали и заработки, металлурги приуныли, у многих опустились руки, положение казалось беспросветным. Не кто иной, как Тевосян, отважился тогда на смелый, небывалый в истории советской промышленности шаг: объявил, что премии отныне будут выплачиваться даже и за восемьдесят процентов плановой выплавки. И каждый последующий процент повлечет прогрессирующее увеличение премий. Эта мера, утвержденная Советом Народных Комиссаров, была распространена и на предприятия, подведомственные наркомату стального проката и литья. Именно такое решение — тут Александр Леонтьевич без малейшей зависти, до этого он не позволил бы себе унизиться, склонялся перед организаторскими способностями Тевосяна, — именно такое решение, затронувшее всю армию металлургов, покончило с настроениями безразличия, безотрадности, подействовало магически.
— Раненько поздравляешь, — сказал Тевосян. — Выложу план по всему циклу, тогда дело другое. По-видимому, мы с тобой голова в голову к этому придем. Глядишь, ты еще вырвешься на ноздрю вперед.
Онисимов не стал оспаривать такое предсказание. Действительно, подчиненные ему предприятия, в том числе и старая Кураковка, уверенно набирала темпы, совсем близко подошли к стопроцентному выполнению программы и по валу и по ассортименту. Уже нельзя было сомневаться, что в грядущий сорок первый — знал ли кто, каким грозным станет этот год?! — промышленность, выпускающая сталь, войдет окрепшей.
— В общем, — продолжал Тевосян, — если по нынешнему обыкновению потревожить Маяковского, сочтемся славой. И на поздравлениях давай поставим точку. Лучше скажи, какие у тебя впечатления от поездки.
Александр Леонтьевич охотно стал рассказывать. Верный себе, школе работяг, которым история дала миссию приструнивать и подхлестывать, скупых на похвалы, питающих отвращение и к самовосхвалению, — таков же, заметим, был и Тевосян, — Александр Леонтьевич заговорил о том, чем возмущался в дни поездки. Нарушения режима, технологическая распущенность. Надобно еще и еще подтягивать гайки. Какой-то вопрос Тевосяна или, возможно, просто поворот фразы привел Онисимова к флокенам. Отдаленные последствия технологической неряшливости или самовольства когда-нибудь еще скажутся. И вряд ли избежим малоприятного занятия: расследовать катастрофы. Тут Александру Леонтьевичу припомнился Головня-младший.
— Не люблю менять директоров, — произнес он, — но решил от Петра Головни избавиться.
Он кратко сообщил собеседнику о прегрешениях директора Кураковки: самоуверен, подвержен изобретательскому зуду, непослушен, публично дерзит.
Темно-карие, почти черные глаза Тевосяна не выразили одобрения.
— Знаешь, тебе могут сказать: ты предлагаешь странное. Молодой директор. Тянет неплохо. Ему надо помогать. Не спешишь ли?
Невнятные сомнения, которые беспокоили Онисимова, мигом приобрели ясность, как бы кристаллизовались. Да, по всей вероятности, ему скажут что-либо подобное. Он, однако, не сдался:
— Спешить, конечно, ни к чему. Но, с другой стороны, если убежден, зачем тянуть?
— Но убежден ли?
В эту минуту откинулась темно-зеленая портьера. Выглянула жена Тевосяна. Она уже сняла свой розовый шарф.
— Что же вы? — В спокойном звучном голосе слышался легкий упрек. — Думаете, вас будут ждать?
Сквозь приоткрытую драпировку дошла настороженная тишина, уже водворившаяся в зале. Оба наркома заторопились в ложу.
Установленный на сцене длинный, застланный малиновым бархатом стол еще пустовал. Вглубь уходили никем пока не занятые ряды стульев. Театральными прожекторами был ярко высвечен на заднике своего рода огромный медальон: лицо нарисованного в профиль Сталина и как бы служивший ему фоном профиль Ленина. Лишь изощренный взгляд мог бы отметить, как из года в год в таком двойном портрете Ленин становился чуть поменьше, а облик Сталина крупней.
Юпитеры, доставленные кинохроникой, уже источали пучки слепящего голубоватого света, пока направленного в зал. Впрочем, один или два, еще не вспыхнувшие, были нацелены в глубину кулисы, скрытой от партера и ярусов, но ясно просматриваемой из крайней ложи, куда ступили, не садясь, Тевосян и Онисимов. В кулису уже вышли те, кто был приглашен занять места на сцене, тесно выстроились, оставив открытым ведущий к столу проход. Почти все они были широко известны. Вон несколько полярных летчиков, рядом широченный лысоватый конструктор авиационных моторов, далее столь же прославленный чернобородый академик. Различима красиво вскинутая голова Пыжова. Виден и седой гладкий зачес старой большевички, немилость миновала ее.
Не отрывая взора от кулисы, Тевосян легонько толкнул локтем Онисимова:
— Э, и старика Головню, гляди-ка, туда вытащили.
Онисимов невозмутимо откликнулся:
— Что же, значит, опять металлургам честь и место.
Рыжеусый мастер-доменщик выглядывал из-за спин тех, кто стоял впереди. Видимо, он то и дело приподнимался на цыпочки, высовывая подальше горбатый большой нос. Довольный, раскрасневшийся, Головня-отец все посматривал в ту сторону, откуда вел проход.
Еще минута — и как-то вдруг, хотя именно это ожидалось, в проходе показался Сталин. Он шел не быстрым, но и не медлительным, словно бы деловым шагом. Его военного кроя одежда, пожалуй, так с былых лет и не переменилась: вправленные в сапоги, слегка свисающие на голенища брюки защитного цвета, такая же куртка без каких-либо знаков. Впрочем, нет, это была уже не куртка, а отлично сшитый китель, свободно облегающий небольшое туловище. Даже и такие, не сразу уловимые, изменения костюма свидетельствовали: отброшен вид солдата,