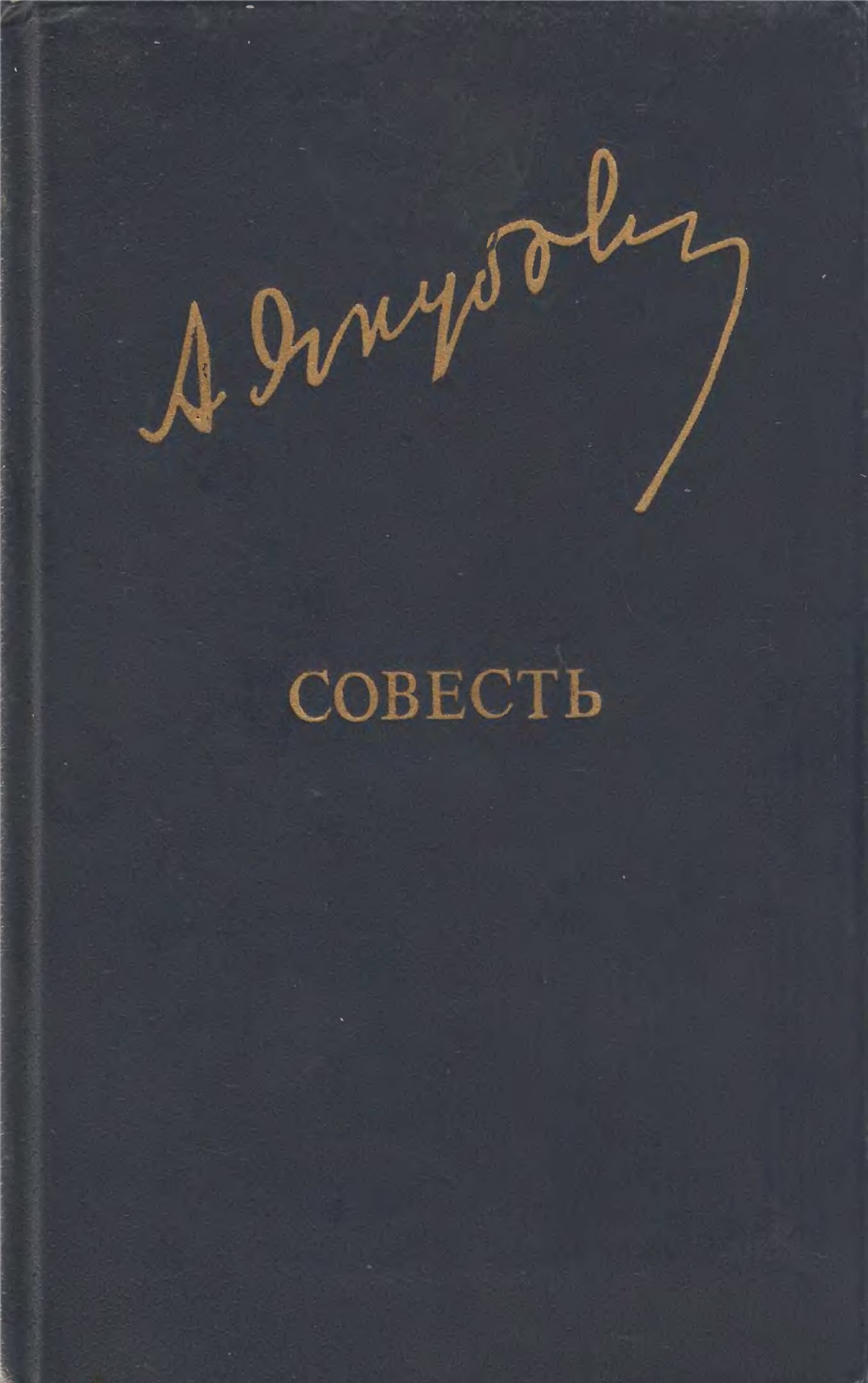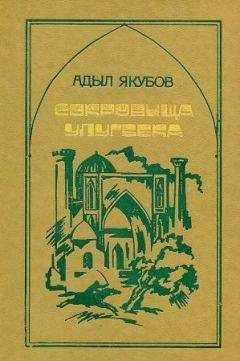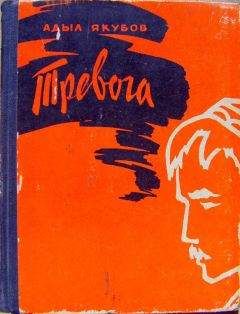сложенные на груди руки, нескрываемое презрение к «сподвижнику». Мухиддин не притрагивался к книгам и рукописям; ему не надо было ни пересчитывать их, ни поднимать взора вверх, к полкам под самым потолком (может, их переставили туда, самые редкие произведения?): сразу же обнаружил он, что наиболее ценные книги и рукописи исчезли. Вот угол, где с особым тщанием хранились книги и рукописи мудрецов и поэтов Мавераннахра, вместо завернутых в шелк знаменитых этих редкостей, здесь стоят другие книги… Он же знает все книгохранилище, можно сказать, наизусть!.. Вот особая полка, скрытая шелковой занавесью, — полка рукописей самого устода. Закрыв глаза, Мухиддин представил себе порядок, в котором они стоят: «Туркулус тарихи», четырехтомная история улусов тюркских племен; рядом на тончайшей бумаге «Таблица звезд», и тут же комментирующие их трактаты; выше, над полкой устода, — полка с книгами сиятельного Кази-заде Руми и Гиясиддина Джамшида: устод всю жизнь почитал своих учителей.
Обе эти полки тоже заставлены теперь другими книгами. Значит, Али Кушчи вывез самое редкое, спрятал куда-то. Куда? И как он мог это сделать один? И еще шейх говорил о драгоценностях, о золоте, и сам Али Кучши говорил об этом, когда приходил за помощью… Куда же он спрятал золото?
Мавляна Мухиддин знал упрямство Али Кушчи, его последовательность в исполнении принятого — раз и навсегда! — решения. Он чувствовал сейчас, спиною своей ощущал, как растет, вскипает гнев Али Кушчи, что продолжал стоять у двери, наблюдая за ним, Мухиддином… Шейх ошибается, думая, что обещанием прощения развяжет язык Али Кушчи! Потому и не станет он, Мухиддин, передавать Али Кушчи слов Низамиддина Хомуша.
Мавляна Мухиддин долго еще бесцельно бродил по библиотеке, не зная, как поступить. Потом медленно направился к выходу, смиренно вобрав голову в плечи.
Али Кушчи закрыл собою весь дверной проем.
— Убедился ли досточтимый мавляна в том, что все; книги… все крамольные книги на месте, в целости и сохранности?
— Да, да, все на месте, все в сохранности, — торопливо закивал мавляна Мухиддин. — Все, все на месте…
— И святому шейху будет доложено об этом именно так?
— А?
Али Кушчи стиснул зубы. В глазах, устремленных на Мухиддина, были гнев, злость и отвращение.
— Шейх, говорю, будет знать о том, что здесь все на месте?
— Будет, будет… Я так и доложу.
— Вот что, мавляна! — голос Али Кушчи задрожал. — Прошлой ночью от руки убийцы пал… наш повелитель… устод Улугбек. Известно об этом шагирду его Мухиддину?
Мавляна съежился, прижался к стене, словно ища у нее защиты от возможного удара.
— Все люди науки сегодня в глубоком трауре! Невежды маддохи торжествуют! Подлые, они убили нашего учителя, главу ученых… Что молчишь, мавляна? Молчание — знак согласия! Значит, знаешь про подлое убийство, знаешь… И в такой день вместо траура, вместо того, чтобы разделить горе просвещенных… прийти сюда, в эту обитель знания, чтобы готовить великие творения к костру!
— Али, Али! Дорогой мой друг! Но что же мне оставалось делать, — почти прорыдал мавляна Мухиддин. — Я не герой, я простой смертный, раб аллаха…
— Ну, так пойди и доложи своему хозяину, раб: Али Кушчи спрятал лучшие… крамольные книги, их нет в обсерватории, нет! Скажи, что надо сжечь обсерваторию, дотла спалить!.. Только помни, душе невинно погибшего устода… убитого твоими новыми хозяевами… все ведомо, весь ты виден!
Мухиддин словно вжался в стену. Громко всхлипнул. Ладонью стал смахивать слезы с длинных ресниц. Губы кривились, бормотали что-то об «ужасной вести», о собственной несчастной судьбе, о том, что «разбитый кувшин не склеить». «Я ваш слуга, покорный слуга…» — то и дело слышалось из уст мавляны.
Али Кушчи отвернулся, сделал шаг в сторону.
И жалко было Мухиддина, и трудно верить в искренность его страданий. Память подсказывала случаи, когда мавляна Мухиддин оказывался в трудном для себя положении и вот так и отделывался — слезами.
Али Кушчи махнул рукой:
— Я все сказал, мавляна! Сказал, как ученому. Как почитаемому мной ученому. А как вам поступить, об этом спросите у своей совести!
И Али Кушчи прошел внутрь книгохранилища, мимо мавляны Мухиддина, глядя поверх него, будто не видя того, кого только что обличал.
Мавляна Мухиддин минуту-другую стоял перед распахнутой дверью, вздыхая часто и шумно, потом вытер лицо рукавом чекменя и медленно, пошатываясь, стал спускаться по лестнице…
Али Кушчи долго не мог успокоиться, снова и снова перебирал в памяти подробности разговора с мавляной Мухиддином. Он ведь не ждал ничего хорошего, тем паче не ждал помощи от этого труса, но как же трудно, оказывается, потерять веру в человека, с которым столько вместе пережито! Где-то на самом донышке души теплился у Али Кушчи лучик надежды, и вот нынче погас тот лучик совсем. Шагирдом Улугбека остался только сам Али, один. И нету другого.
…Кто-то тронул мавляну за плечо. Обернулся. Увидел Каландара и Мирама Чалабй. Его ученики, его собственные ученики!
— Мавляна Мухиддин ушел?
— Ушел, устод.
— А воины?
— Один поехал с ним, двое внизу, у ворот. Стерегут нас.
Помолчали. Али Кушчи все думал о горестном своем одиночестве.
— А ты почему не уходишь, дервиш?
Каландар подтолкнул локтем Мирама.
— Ваш покорный слуга был беззаботным нищим… А теперь… Если мавляна Мухиддин раскроет святейшему шейху тайну исчезновения книг, то… лишусь я всего, наставник!
Али Кушчи неожиданно для себя рассмеялся.
— Дрожишь за сохранность старого колпака и лохмотьев? Не шутка, это большое богатство!.. Ну, а всерьез, куда хочешь податься теперь, дервиш?
— Теперь? — Каландар потер лоб треухом, пожал плечами. — К Уста Тимуру Самарканда наставник. Знакомой дорогой, если позволите, — он показал пальцем в пол. — Больше некуда мне! А вы, устод?
— Я? Нельзя мне уйти… Пусть резня, пусть темница! Своей волей отсюда не уйду. Да и свершается с каждым лишь то, что написано на роду!.. А вот Мирама ты взял бы с собой, дервиш.
Мирам Чалаби нахмурил брови, иссиня-яркие глаза его потемнели.
— Нет, нет, учитель! Где будете вы, там буду и я!
Али Кушчи встал с кресла, ласково обнял ученика за плечи. Потом достал из-за пояса-кушака связку ключей, отделил один.
— Пойдемте, друзья.
Много часов не смыкал глаз шах-заде Абдул-Латиф. До вчерашней полночи не мог заснуть.
Вчера в полночь получил он наконец долгожданную весть от эмира Султана Джандара, посланного вслед Мирзе Улугбеку. А получив эту весть, которая словно гору свалила с плеч, шах-заде в радостном изнеможении упал в золотое кресло прадеда своего, эмира Тимура, и тут же заснул.
Сколько проспал, не помнит. Но показалось ему, что кто-то встал над ним,