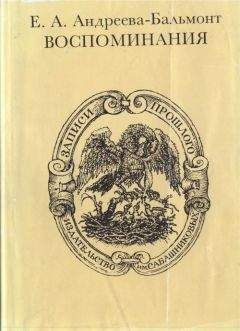Вы терпеть не можете Валерия Брюсова. Вы ужасаетесь и негодуете, что он посмел - и плохая то была смелость - окончить "Египетские ночи", которые Пушкин не счел надобным кончать. Но, знаете, для последовательности, вы, не принимая Пушкинского закона правильной рифмы и полагая, что неверная рифма есть дальнейший поступательный ход стихотворчества, должны были бы улучшить три эти божественные строки. Так легко, например, сказать:
Рифма - звучная подруга,
Украшаешь ты досуги
Вдохновенного труда…
И вдохновенность, пожалуй уж, тут кончается.
Вы вздыхаете, видя мою непримиримость, и предательски-рассеянным голосом говорите мне: "Но… мне кажется, народная песня очень любит неверные рифмы?" Приветствую, что, кроме Пушкина и Баратынского, вы любите также народные наши песни. Но знаете что - вы насчет этой песни говорите что-нибудь иное. Народная Песня - не связанный никакими правилами род поэтического творчества, народная песня настолько глубинно выражается из народного сердца, что нужно быть Народом и в Народе, чтобы участвовать в создании Народной Песни. Подражать Жар-Птице нельзя. Да притом ваше утверждение неточно. Народная песня любит созвучие, а не неверную рифму. В естественном тяготении к созвучию народная песня одинаково свободно создаст и стихи без рифмы, и стихи с рифмой верной, и стихи с рифмой неверной, и стихи, похожие на прозу, зачинающую песнь, и все это в народной песне совсем не строится систе-ма-ти-чески, как у вас, юный друг, или у злой нашей Марфы Посадницы разбойничанья в поэзии - Марины Цветаевой, которая свой крупный план посвятила за последнее время созиданию Пугачевщины в русском стихосложении.
Мне хочется сказать еще вам, что в погоне за уловлением какой-то радостной щуки в мелководных бочажках неверной рифмы вы логически пришли к звуковой - простите - тарарабумбии. Вы прислали мне очень интересное восьмистишье, оговорившись, что оно вам не нравится. Вот оно. И заранее скажу: если вы искренни, говоря, что оно вам не нравится, а не замыслили меня в чем-то уловить, то я рукоплещу от радости. Вы скоро исцелитесь от неверной рифмы.
Вам нравится ваше восьмистишье - иначе бы вы не написали для самой себя,- но по вашему изяществу поэтическому, вашему тонкому вкусу, возлюбившему того, кто воспел Соименницу зари и Последнего поэта и Где сладкий шепот моих лесов? - как могли бы понравиться ваши собственные рифмы, когда, доводя до предельности закономерность вашей системы, вы изволили впасть в знакомые нам с детства грамматические звукосочетания, вроде "Белый, бледный, бедный бес" или "От топота копыт пыль по полю несется".
Итак, ваше восьмистишье:
С тихим вечером в разладе,
Я грустила у ограды,
И слегка тревожил гряды
Ветер в сумеречном саде,
И клонились ветви долу.
Грусть не в силах вынесть доле,
И подвластна мерной доле,
Ночь окутывала долы.
"Разладе" вы, надо думать, рифмуете с "гряды", а "ограды" с "саде". Но - природу гони в окно, она войдет в дверь, гони в дверь, влетит в окно или даже через щель проберется. Ведь вы правильно срифмовали, но только 1-ю строчку с 4-й, а 2-ю с 3-й. Допустим, однако, что вы рифмовали "по-своему" 1-ю строку с 3-й и 2-ю с 4-й. Господь с вами, наша тяжба слишком затягивается. Но это "долы-доле-долу-доле"! Ззззить, как гармошка! Как хотите, я даже народную песенку вспомнил одну. Екатеринославскую:
Крыса с мышей задралася,
Крыса в яму убралася,
Да не взялся Терешка,
Вмотал крысу в рогожку,
Да понес на базар.
Никто крысы не купает,
Никто даром не берет.
Бедная крыса. Но вот я ее беру. И говорю. Юный друг, если вы хотите, чтоб смена рифм была певучей, постарайтесь, чтоб ударная гласная в 1-й и 2-й строках была не одинаковая, не "а - а", не "о - о", а, скажем, "а - и", "о - у" и т. д. Если вы именно стремитесь к особому напевному действию монотонности, так потрудитесь одевать свою ударную гласную в нетождественные согласные… Восьмистишье ваше прелестно, хотя с краю, где рифмы, вы бедное свое детище окутали в безобразные цыганские лохмотья, совсем не романтические и не загадочные…
Ни Пушкину, ни Баратынскому, ни Тютчеву, ни Фету, ни покорному вашему слуге еще не приспела пора простонать: "Мне время тлеть, тебе цвести". Нет, ваш талант цветет и расцветает, но не сорная поросль, которая называется неверной рифмой. И от верного заполнения души высоким созерцанием, проникновенною ощупью того строя, который чуется везде в Природе, неизбежно в душе поэта рождаются верные рифмы.
Как ни божественно воспел рифму Пушкин, Баратынский воспел ее еще божественнее. Вы помните, как кончается его гимн. Завет поэту.
…Ты, рифма, радуешь одна
Подобно голубю ковчега,
Одна ему с родного брега
Живую ветвь приносишь ты,
Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзывом
И признаешь его мечты.
1928, VIII
Русская духовная жизнь 90-х годов XIX века и первого десятилетия XX-го неразрывно связана с именем А. П. Чехова. Он воплотил в своей творческой личности так много художественного содержания, связанного с основными душевными качествами русских людей и отображающего тяжелую пору упадка, распада, угнетенности сердец, что его писания являются одним из лучших исторических документов, не говоря уже о высоких чисто художественных их качествах.
Но мне хочется сказать о Чехове несколько слов совершенно личного порядка. Я встречался с ним неоднократно в Москве и в Ялте и видел его в разной обстановке: в "Большом Московском" ресторане; в семейном кругу; в его собственной московской квартире, где среди гостей он казался мне одиноким; в его одинокой жизни в Крыму, где, завтракая с приятелем, он казался довольным и не нуждающимся ни в чьем обществе; я видел его беседующим,- дружески и с простотой безукоризненной беседующим - с гением в крымском доме Льва Толстого; я снова видел его среди его празднующих людей, все в той же Ялте и все таким же одиноким, каким он мне всегда казался, когда он бывал в многолюдной комнате. И я полюбил Чехова за эту черту, когда я был еще совсем молод и только что начал свою литературную дорогу. И я любил его, когда он, Горький и я, мы возвращались в Ялту, после 2 или 3 часов, проведенных в обществе Толстого.
Я полюбил Чехова, однако, и ранее встречи с ним. В 1889 году, 22 лет, только что женившись и объездив Кавказ, душевно истерзанный, истомленный и понявший, что сделана какая-то, как казалось мне, непоправимая жизненная ошибка, я вернулся в родную деревушку Шуйского уезда, Владимирской губернии, и в расцветном мае предался страстному изучению в подлиннике поэзии Гёте и особливо Гейне. Злополучная судьба Гейне и блестящая, полная равновесия судьба Гёте мне казались взаимно дополняющими одна другую и как-то несказанно-таинственно изъясняющими мне, чуть-чуть начинающему поэту, судьбу писателя как писателя. Кто-то из знакомых подарил мне книжку Чехова "В сумерках". Я начал читать эту книгу с недоверием, но тотчас же отодвинулись от меня и Гейне и Гёте. Я читал ее медленно, не желая испортить впечатления торопливостью. Она меня поразила. А один маленький рассказ - чуть ли он не называется "Колдунья" или "Ведьма",- вызвал в душе моей художественный трепет, который я и сейчас, вспоминая, чувствую,- жуть от женщины, чарою которой неудержимо привлечен.
Я что-то читал еще тогда Чехова. Но мне не полюбилось это. А потом моя внутренняя жизнь совсем отбросила меня от желания читать его. Во мне самом было столько тоски и угнетенности, что каждая страница Чехова была не противоядием, а увеличением душевной отравленности. Полоса отчаяния привела к исканию смерти. Смерть показала свой лик и ушла. А из предельного отчаяния вырос такой взрыв радости, возник такой расцвет воли к жизни, к творчеству, к счастью, такая воля к воле, что чеховское творчество навсегда стало мне чуждым. Однако не он сам. Тонкая верность его художественной кисти всегда чувствовалась и очаровывала. И скоро я с Чеховым встретился. Но опять только в области художественно-словесной. В 1893 году, летом, я был в Скандинавии - в Швеции, в Норвегии, в Дании. Во время этого путешествия я написал, между прочим, весьма меня прославившее стихотворение "Чайка". Я позволю себе припомнить его здесь.
Чайка
Чайка, серая чайка, с печальными криками носится
Над холодной пучиной морской,
И откуда примчалась? Зачем? Почему ее жалобы
Так полны безграничной тоской?
Бесконечная даль. Неприветное небо нахмурилось.
Закурчавилась пена седая на гребне волны.
Плачет северный ветер, и чайка рыдает, безумная,
Бесприютная чайка из дальней страны.
Я прошу знающих вспомнить, когда была написана "Чайка" Чехова, а тех, кто жил в 90-х годах прошлого века в Москве, прошу припомнить, как часто две "Чайки" сопоставлялись и в жизни, и в печати.