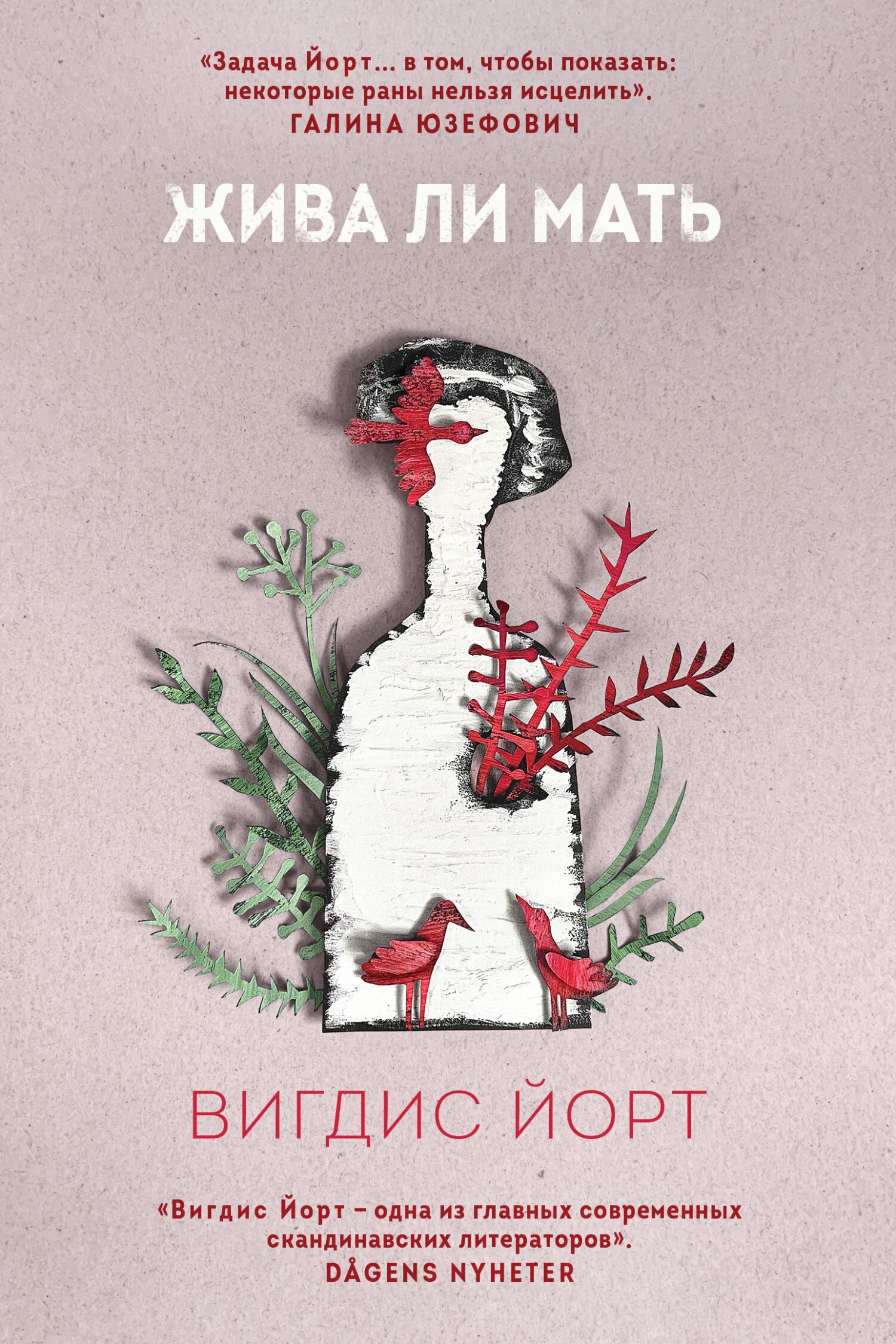не звонили, наверное, это пустые угрозы, они же не знают точно, кто бросил снежок.
Несмотря ни на что, я не отступилась, я разработала план.
Одновременно я задалась вопросом: чего ты на самом деле хочешь?
Знать!
Потому что?.. Если на левом предплечье у матери действительно есть тонкие белые полоски, похожие на льняные нитки, мать не сможет отпереться и заявить, что не испытывала боли, и даже если она не признается, я, увидев шрамы, лучше пойму, каково ей было, когда она качала меня, маленькую, на руках, – значит, боль ее сердца перекинулась на мое. И если я лучше пойму ее, то, возможно, смогу простить!
Впрочем, она полагает, будто, несмотря на раны, в прощении она не нуждается.
Есть ли в мире мать, которая считает, что не допустила ни единой ошибки и что прощение ей не нужно? Да, вот она, это моя мать, потому что она продемонстрировала это своей старшей дочери – потому что они на пару с младшей дочерью показали старшей, что все невзгоды случились с семьей по вине старшей дочери, а значит, ей и прощения просить! Возможно, я и впрямь могла бы извиниться, если увижу ее шрамы, запоздало оплакать их, извиниться, что так поздно поняла, какую боль и отчаяние она носила в себе, какой пленницей себя чувствовала.
Но матери все равно, понимаешь ты или нет, она настолько искоренила тебя в себе, что ей плевать на твою духовную жизнь, и в прошлом копаться она точно не захочет. Выжить ей помогла способность убегать от неприятного, а то, от чего убежал, изо всех сил стараешься избегать, поэтому брось-ка ты эту затею.
Но прошлое не умерло, оно и не прошлое вовсе! Это только герои Ибсена полагают, будто способны оставить прошлое позади, однако потом раз за разом убеждаются, что это невозможно! Поэтому прошлое наверняка допекает мать, например, по ночам – Йеллоустон, Монтана, и другие мечты, от которых пришлось отказаться, потому что главными были мечты отца, а не ее. Мать думает, что забыла, но они по-прежнему существуют где-то внутри, рядом с дырой, образовавшейся на месте меня, крошечной пустотой, на месте которой когда-то была я, впрочем, нет, это место заняла Рут, носить в себе Рут проще, чем меня, со мной с самого начала приходилось тяжело. Так что забудь, поняла?! Но как раз забыть-то я и не могу! Не могу задвинуть мать в дальний угол, потому что подозреваю, что ее прежняя неоднозначная любовь ко мне и ее упрямство отражают неразрешенные конфликты, ее собственные, живущие в ней, а о них я хочу узнать больше. Загадка моей матери – это моя загадка, тайна моего существования, и мне кажется, что, лишь разгадав ее, я добьюсь искупления.
А вдруг моя задача – примириться с неразрешимым?
Мать много страдала из-за своей старшей дочери – вот как хотела я написать, но вместо этого написала, что мать много смеялась из-за своей старшей дочери.
Мать смеялась, когда я передразнивала, как фру Бенсен с сумкой-тележкой идет в магазин, шарахаясь в сторону от едущих ей навстречу машин. Мать смеялась, когда я передразнивала фрекен Бюэ, как та, прикрыв глаза и покачиваясь, читала молитву перед тем, как мы разворачивали принесенные в школу бутерброды. Если отца не было рядом, мать смеялась, когда я передразнивала басовитый голос бабушки Маргреты, звонившей мне поздравить меня с днем рождения: «Юханна Хаук? Мои поздравления. Я отправила тебе в подарок целое состояние».
Иногда мать спрашивала: что говорит бабушка Маргрета, когда она звонит тебе на день рожденья? И я отвечала ей басом, на бергенском диалекте, как бабушка Маргрета, а мать смеялась. Хорошие были моменты, их матери недостает.
Маргерит Дюрас где-то пишет, что каждая мать в детстве каждого ребенка представляет собой безумие. Что более странного человека, чем мать, не бывает. По-моему, она права. Многие говорят: мать была чокнутой, я не шучу, она правда была чокнутая. Вспоминая своих матерей, люди часто смеются, матери забавные.
Я еду в лес и иду по свежему снегу, но по старым следам до избушки, а ночью мне снится, как мать в церкви плачет, и когда церковная служба окончена и все разошлись, мать сидит на скамье, как сидела я, и служка подходит к ней спросить, не хочет ли она поговорить со священником, мать кивает, служка приводит священника, и тот склоняется над матерью, и мать с заплаканным лицом говорит, да таким детским голосом, что у меня сердце разрывается: «Я так несчастна, я так одинока».
Я просыпаюсь, мокрая от пота, и понимаю, что во мне еще живо детское отношение к матери, что давняя зависимость от нее, которой я дорожила и к которой питала отвращение, по-прежнему живет во мне.
Я называла ее инфантильной, я раскаиваюсь в этом, это было по-детски.
Теперь, когда я разбила стекло, они примут меры, поэтому мне придется сидеть тихо. Мать не будет выходить на улицу в одиночку, запрется в квартире и не станет открывать, если позвонят в дверь, а если позвонят в домофон, то перед тем, как открыть, она непременно спросит, кто это. Если матери что-то нужно в городе, Рут отвозит ее туда и привозит обратно. Мои шансы встретиться с матерью один на один равны нулю.
Я еду в избушку и провожу там в одиночестве неделю, я рисую угольными карандашами, рисунок приобретает черты матери. Про ретроспективу я не думаю. Приходит лось – он сбросил рога, таков ход жизни, шерсть у лося посветлела, сейчас декабрь, скоро Рождество. Я затаилась, они надеются, что я махнула на них рукой, и вот-вот расслабятся. В ближайшую субботу, на маленький сочельник, они зажгут свечку на отцовской могиле.
Я рисую мать. Она плавает, одна. Отец вылавливает ее из моря, как рыбу, и запускает в круглый аквариум для золотых рыбок. В этом аквариуме мать одна, ей известно, что она не золотая рыбка, и она боится, как отреагирует отец, когда выяснит это. Мать всегда боится. В аквариуме она рожает дочь, та – тоже не золотая рыбка, это отец быстро понимает, с чего он должен кормить это странное недекоративное существо, корм для золотых рыбок такой дорогой. Мать пытается защитить своего детеныша, «я же предупреждала», но это сложно, и детеныш, собравшись с силами, выпрыгивает из аквариума, к счастью, море близко, дочь ныряет в море – теперь она может уплыть подальше. Мать очень старается походить на золотую