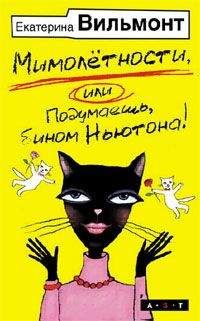Ольга Карпович
Все перемелется
В среду шеф неожиданно вызвал Вадима в кабинет и объявил, что тому предстоит командировка в Москву. Нужно было пройти программу обучения работе с новой компьютерной системой безопасности, которую собирались внедрить в их конторе. Ехать Вадиму было неохота – чего он в той Москве не видал? Мать его и в детстве возила на каникулах посмотреть столицу нашей необъятной Родины, и в студенческие годы мотался как-то раз с дружбанами потусоваться в московских клубешниках. В общем, ничего нового от поездки он не ждал. А насчет обучения – так можно подумать, он сам, двадцатипятилетний программист, не разобрался бы с программой – подумаешь, бином Ньютона. Но раз начальство эту фишку с командировкой замутило, значит, надо ехать, ничего не поделаешь.
Мать, однако, вечером, когда Вадим сообщил ей о предстоящей поездке, впечатлилась по полной:
– Ой, Вадюша, как хорошо, я тебе список напишу, чего купить…
– Мать, – покровительственно прервал Вадим. – Ну ты че, в самом деле? Давно ж уже не совковые времена, и у нас все купить можно.
Мать, однако, переубедить было нельзя, она все еще помнила те времена, когда за любым дефицитом надо было переться в Москву и «доставать» там через знакомых.
– Вот, бывало, Анна Федоровна всегда мне помогала, – мечтательно вспоминала мать. – Она тогда директором в продуктовом была, так мне в дорогу и колбаски финской соберет, и икорки пару баночек отложит.
– Это че за Анна Федоровна? – сморщил лоб Вадим. – А-а-а, это та баба, дальняя родственница, у которой мы с тобой тогда на раскладушке спали?
– Ты помнишь, да? – обрадовалась мать. – Конечно, мне ведь так хотелось тебе Москву показать. А в гостиницу тогда было не попасть. Вот мы у Анны Федоровны и останавливались, спасибо ей огромное. Значит, помнишь про раскладушку? А лошадок, лошадок деревянных помнишь? Она тебе играть давала, тебе нравились очень…
– Че-то припоминаю, – лениво протянул Вадим.
Ему действительно припомнилась вдруг миниатюрная резная деревянная лошадка, удобно помещавшаяся в ладони, которую он таскал по вытертому багровому ковру туда-сюда. Встал перед глазами летний день – солнечные квадраты, лежавшие на этом самом ковре – в одном из них сидел он, пятилетний Вадик, – трепыхавшаяся над окном кружевная занавеска, запыленные листья липы, лезущие через подоконник, звон трамваев с улицы. Увидел он и мать, еще почти девчонку, вырядившуюся ради приезда в Москву в свое единственное выходное платье с люрексом, и немолодую, но крепкую, коренастую женщину с пучком седых волос, которая помогала матери заворачивать в газету великолепные яства.
– Бери, бери, Шура, ничего, дотащишь – ты вон какая молодая да сильная, – понукала мать женщина. – А мальчугану твоему витамины нужны, питание хорошее. Ну что там в вашей Караганде достать можно!
– Да-а, хорошая женщина Анна Федоровна была, сердечная, – пригорюнилась мать.
– Была? Она откинулась уже, что ли? – поинтересовался Вадим.
– Жива она, что ты, – отмахнулась мать. – Только так жива, что уж лучше б… Умом она тронулась на старости лет, а девки ее бесстыжие – Галка и Ирка – в богадельню ее сдали, чтоб жить не мешала. Вот ведь как она, жизнь-то, складывается. Всю дорогу она всех на себе тащила, а как сдала, так и вышвырнули ее как собаку. И вся жизнь-то у нее была трудная, тяжелая, так хоть бы под старость покой – и того не дали!
– Да ладно уж, прям тяжелая, – скептически ухмыльнулся Вадим. – Жила себе, считай, в Москве, в отдельной квартире. И работа не пыльная – завмагом продуктового, спину особо ломать не надо, опять же жрачки дома всегда навалом.
– Да что ты знаешь-то, – обиделась мать. – Это уж потом, в последние годы она в Москву попала. А до этого так помотало ее по всему бывшему Союзу, что не дай бог. Когда я еще ребенком была, тетя Аня много со мной возилась, но про жизнь свою, конечно, не рассказывала. А вот в тот приезд как раз, когда на раскладушке мы с тобой спали у нее, засиделись мы с ней как-то за полночь, она мне и порассказала про все. Ну а потом уж в письмах писала. До самого последнего времени мы с ней переписывались, пока она еще в рассудке была. Я над ее письмами, бывало, чуть не плакала.
– Ну, мам, ты извини, тебе это несложно, – засмеялся Вадим. – Я от тебя диск с «Титаником» два года в кладовке прятал.
– А вот ты послушай, прежде чем над матерью потешаться, – заявила мать и начала рассказывать.
* * *
Анне, возможно, за всю ее жизнь не было еще так страшно и одиноко, как сегодня. Казалось бы, пора было привыкнуть к потерям. Война унесла жизни самых дорогих людей, тех, кто ее по-настоящему любил – отца Федора и старшего брата, Михаила. Сестра Валечка уехала из села, где еще недавно жила большая семья Шкановых, на заработки в далекий Казахстан, младший брат Митя подался туда же. На стройку, зарабатывать деньги. Вот теперь и мать, Полина, собралась за своими любимыми младшими детьми.
Анна знала, что мать ее не любила. Не то что она как-то не удалась или что-то с ней было не так, наоборот, Анна была здорова, отзывчива и всегда покорна воле родителей. А вот не любила ее Полина, и все тут. С детства поручала самую тяжелую, почти непосильную для детских рук работу, с которой маленькая Анюта кое-как все же справлялась. Ни слова ласкового у матери не было припасено для старшей дочки, ни ободряющего взгляда. С детских лет Аня только и знала, что есть семья, есть младшие дети, о них надо заботиться, матери не перечить, с отцом быть всегда вежливой и покладистой.
А вот отец привечал маленькую Анюту. Анне очень не хватало сейчас этого молчаливого и крепкого бородача, ее отца, Федора Шканова. Он, в отличие от матери, был всегда рад ее присутствию, почти не одергивал маленькую Аню, а когда та стала постарше, вырезал для нее замечательные игрушки из бересты. Игрушки у отца, знаменитого на весь Ишимский район, откуда вся их семья была родом, краснодеревщика, получались как живые. Резные лошадки того и гляди готовы были сорваться в галоп, а миниатюрные балерины – закружиться в неистовом танце.
Вспомнилось, как отец, высокий, широкоплечий, от которого всегда вкусно пахло свежеструганым деревом, а в бороде запутывались золотистые стружки, сажал ее на колени и весело подбрасывал вверх, топая ногами. В эти минуты зашуганная, тихая, неласковая Анюта хохотала отчаянно. Затем отец просовывал руку в карман рубахи:
– Гляди-ка, птичка-невеличка, что я тебе принес!
Он раскрывал перед девочкой свою большую, мозолистую, сильную ладонь, и Аня, затаив дыхание, рассматривала тонко сработанную резную деревянную лошадку.
Эти маленькие подарки из детства она хранила всю жизнь как воспоминание об отце.
Когда брат с отцом погибли, Анне было очень горько и одиноко. И она, хоть и крещенная в детстве по настоянию Федора, все же не совсем понимала, где же они сейчас, отец и брат, и как надо молиться, чтобы душам двух самых любимых людей было мирно и покойно. Поэтому Аня украдкой плакала ночами – тихо, беззвучно, чтобы не услышала Полина ее всхлипов, доносящихся из чулана, где ютилась Анюта. Ей не хотелось показывать матери свою слабость.
Теперь вот и мать уезжала, оставляла ее одну, якобы на хозяйстве, на самом деле весьма бедном, совсем не таком, какое было у них раньше, в их родном селе, и прекрасно запомнилось Ане по детству. Пятьдесят саженей земли, две лошади – одна стременная и сноровистая кобыла, другой – мерин Булат, дурковатый, но безотказный и спокойный в работе. Куры, гуси, индюки, разноперые утки – чего у них только не было… Что и говорить, хорошо жила тогда семья Шкановых, зажиточно. В семье не пили, не ругались, безграмотная, но работящая Полина, бывшая на десять лет моложе отца, Федора, была безоговорочно влюблена в своего талантливого мужа. А руки у того и правда были золотые: мебель, которую он делал, могла посоперничать с обстановкой в самых богатых господских домах.
Правда, время было такое, на мебель заказов поступало все меньше, зато сметливый Федор сколотил бригаду, строил дома, вырезал окна и карнизы. Красота была в его работах первобытная, талант художника так и рвался наружу. Дома строились, семья Шкановых богатела, Федор не был ленив и объезжал на своем верном Булате всю округу, предлагая свои мастеровые услуги.
Домов действительно требовалось все больше. В их богатом селе теперь руководили партийные, они активно создавали вместо индивидуального хозяйства общее, строили огромный совхоз. И вскоре у семьи Шкановых не стало ни гусей, ни индюков, ни тем более заморских уток. Все было отдано на нужды нового строящегося общества. Однако народ ринулся из голодающих городов в совхозы, и их село за какие-то полгода наполнилось чужаками. Им-то и требовались новые дома. Тут уж было не до красоты, строили быстро, вновь прибывшим негде было жить.
Однажды Федора вызвали в хату, где располагался сельсовет. Низенький усатый человек с прокуренным голосом и револьвером в кобуре сказал Федору: