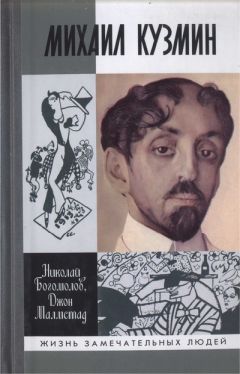— Ларион Дмитриевич, вы на своих лошадях?
— Да, у меня свои, — ответил тот, не понимая, к чему ведет вопрос жены.
— Вы сейчас свободны?
— Да. Я кончил визиты и еду домой.
— Свезите меня покататься.
— Пожалуйста, — ответил доктор рассеянно.
— Ну, чего вы боитесь? Покатаемся с часок, и вы меня завезете домой. Тут нет ничего особенного. И, в конце концов, я же вам жена.
— Конечно.
— Вот видите, Родион Павлович, все-таки кататься я поеду.
— Воля ваша.
Верейская приостановилась на пороге и, прищурив глаза, сказала голосом, которому хотела придать не то загадочность, не то угрозу:
— Знаете, я бы не советовала вам все мои поступки предоставлять моей воле.
Валентина редко заходила к больному брату. Во-первых, потому, что переехала от матери на Гагаринскую к Устиньиной тетке, во-вторых же, потому, что не хотела видаться с Родионом Павловичем, считая, что так для нее будет лучше. История с Павлом, и что было за нею, потрясло девушку чрезвычайно. Ей казалось, что перед нею по очереди все присутствующие открывали какие-то бездны, пропасти падений, несправедливости, преступлений, проистекавших от неразделенной любви (а иногда и от разделенной) и от стремления сделать любимого по-своему счастливым, несмотря ни на что, часто даже вопреки его собственному желанию. Она почти не помнила, как ее довели до дому Устинья и Пелагея Николаевна, и как села на сундук в прихожей; так все и сидела, пока те рассказывали Анне Ивановне, что случилось с ее сыном. Денежкина и горевала о Павле, и за что-то негодовала на Миусова и на кажущееся бесчувствие Валентины, и все это как-то вместе зараз выливалось у нее в бранчливых слезах. Хотела было тотчас бежать к больному, да заодно и выговорить Родиону Павловичу, что у нее накипело на сердце, но Устинья удержала ее.
— Сходите завтра, Анна Ивановна: все равно опасности для Павла нет, а теперь он без сознания, да и Родион Павлович в таком состоянии, что едва ли поймет, что вы будете ему говорить.
— Ага, почувствовал, прошибло, как человека из-за него, Ирода, чуть не убили!
— Чем же Родион Павлович виноват? — спросила Валентина, будто очнувшаяся при его имени.
Мать набросилась на нее:
— Уж ты-то хоть не зли меня, Валентина. Помолчи часок. Влюбилась тоже в быка этого. И зачем только он приходил тогда, устроил эту мастерскую, взял Павла! Знала бы, на порог не пустила бы!
— Что вы меня Родионом Павловичем попрекаете! Ну, да, я люблю его, а вы не любили отца Павла? а разве он лучше был Родиона Павловича?
— Такой же Ирод, Валя, такой же!
Устинья и ничего не знавшая Пелагея Николаевна рассмеялись, даже сама Анна Ивановна улыбнулась сквозь воркотню.
— С вами не хочешь, да согрешишь!
— Ох, и глупы же мы, бабы! — сказала Устинья.
— Ну, это-то, мадам, про себя только можно думать! — запротестовала было Пелагея, но Устинья только махнула рукою: все, мол, на один фасон!
На следующий день Валентина продолжала быть все такою же смутной и неразговорчивой, так что мать ее, сходившая уже к Миусовым и убедившаяся, что Павел вне опасности, даже стала больше беспокоиться о дочери, нежели о раненом сыне. Там все было ясно, по крайней мере так казалось Анне Ивановне, а здесь состояние Валентины трудно было себе объяснить, и, чем оно было загадочнее, тем более представлялось зловещим и угрожающим. Потому Денежкина была даже рада, когда Валентина дня через три объявила, что на некоторое время она переедет к Устиньиной тетке. Анна Ивановна знала о существовании гагаринского скита и неясно себе представляла, что ее дочь будет там делать, но была уже рада, что та выражает какое бы то ни было желание, строит какие-то планы. Конечно, она далека была от предположения, что девушка задумала постричься, да еще в раскольничьей обители, но все-таки спросила:
— Ты что же, в монашки хочешь идти?
— В монашки захотела бы, так я бы и пошла в монастырь: я просто хочу пожить у Анфисы Ивановны, успокоиться, подумать… Вы не сердитесь, мама, и не огорчайтесь, я буду к вам ходить, когда и вы соберетесь…
— Конечно, конечно.
Валентина подумала немного и добавила застенчиво:
— Еще, мама, я хотела вам сказать… разные глупости насчет г-на Миусова я совсем из головы выбросила.
— Дочка моя милая, бедняжка ты моя!
— Но я никого не полюблю, никого больше.
Анна Ивановна ничего не сказала Валентине, только крепко ее обняла, зная, что дочке всего семнадцать лет. Кто же в этом возрасте не говорит таких слов? хотя она сама не знала, желать ли Валентине, чтобы ее сердце, отдохнув, снова загорелось более желанной, более радостной любовью, или так и лучше: жить девушкой-вековушей, мать беречь да душу спасать, — печальное житье, но зато покойно, а может быть, и счастья больше! но по-женски ей было до слез жалко Валентины, и она все крепче обнимала ее полный стан.
На Гагаринской встретили Валентину приветливо и просто, думая, вероятно, что ей надоест все время стоять за стеклянною перегородкой, что она захочет получить право вступить и в самую часовню и, как говорится, «перемажется», т. е. присоединится к их согласу. Но видя, что вновь прибывшая, по-видимому, не тяготится своим положением, особенного благочестия не выказывает, к службам ходит редко, — ее оставили в покое жить, как ей угодно.
Она поместилась у Холщевниковой в одной комнате с Устиньей, едва ли определенно как-нибудь думая о своем будущем, прельстившись только покоем, который исходил, казалось, из самых стен Гагаринской обители. Устинья ее не расспрашивала, только внимательно наблюдала за подругой. Наконец не вытерпела и как-то раз спросила:
— Ну что же, Валя, ты теперь успокоилась?
Валентина не спеша ответила:
— Я спокойна.
— О г-не Миусове не думаешь?
— Нет.
— Значит, свободный человек?
Валентина не отвечала на вопрос, а посмотрела на загоревшиеся глаза Устиньи, на ее зардевшиеся щеки и как-то сурово заметила:
— Знаешь, Устинья, ты это брось! И прежде-то мне не следовало тебя слушать, да глупа была, а теперь уже окончательно не подходят такие слова!
— А что такое теперь случилось, что с тобой нельзя уже и говорить? в игуменьи, что ли, готовишься?
— Нет, просто не хочу этого слушать.
— А сама говоришь, что спокойна!
— Да, я спокойна.
— И явись сейчас Родион Павлович (Валентина, нахмурясь, взглянула на Устинью и тотчас отвела глаза) или Ольга Семеновна, или, скажем, Лосев — ты выдержала бы?
— Не знаю. Думаю, надеюсь, хочу верить, что выдержала бы, но кто знает? из того, что я могу оказаться слабой, не следует, чтобы я добровольно старалась развивать эту слабость.
Устинья махнула рукой и пошла было к двери, но вдруг остановилась, потому что на пороге стояла мужская фигура. Устинья так изумилась, что к вновь пришедшему первою обратилась сама Валентина:
— Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Входите, хотя, по правде сказать, я несколько удивлена, что вы вздумали меня посетить.
Валентина говорила спокойнее, чем ожидала Устинья, и действительно, какие-то интонации игуменьи уже слышались в ее голосе. Вероятно, это происходило от волнения, которого нельзя было показывать, от новизны положения, от присутствия Устиньи, перед которой не хотелось ударить лицом в грязь.
Лосев продвинулся в горницу и, не подходя близко к Валентине, поклонился ей, та ответила низким поклоном.
— Простите меня, если можете, Валентина Павловна.
— Бог вас простит, Евгений Алексеевич.
— Как много я вам зла сделал!
— Что об этом вспоминать! Вы себе самому больше зла сделали своими поступками.
— Да, уж и не говорите!
— Как же вы теперь живете?
— Вот жениться думаю и уехать в провинцию.
— Хорошее дело. Невеста ваша, конечно, о всем осведомлена?
— Да, она все знает.
— Чаю, может быть, хотите?
— Нет, благодарю вас, я, собственно, только затем и пришел, чтобы просить у вас прощения.
— Спасибо, Евгений Алексеевич, я вас простила, Павел тоже, а других это не касается.
— Вы очень изменились, Валентина Павловна.
— Разве? сама живешь, не замечаешь. Да и потом, люди не сухие пеньки, чтобы не меняться. Все меняются. Разве вы сами избегли этого?
— Я тоже очень изменился.
— И слава Богу.
— Слава Богу! — печально повторил Лосев и, поклонившись, добавил: — так я пойду. До свиданья, Валентина Павловна.
— До свиданья, Евгений Алексеевич. Христос с вами. Провожала Лосева Устинья. Вернувшись в комнату, она похлопала Валентину по плечу, воскликнув:
— Молодцом, мать Валентина!
— Оставь, Устья, шутить.
— Да ты никак всерьез в монахини собираешься?
— Ах, я не знаю, что будет дальше, а покуда это дает мне силы — и то хорошо.