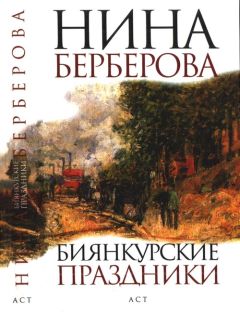Спускаюсь все ниже по карте, по берегу, где, говорят, скоро между Бостоном и Вашингто-ном будет один сплошной город. Пока это совсем не так. И до, и после Нью-Йорка, с его необозримой индустриальной цивилизованностью, все зелено, все дышит цветами и морем. И так - до самой оконечности, до Флориды, где сто лет тому назад еще были девственные леса (о чем мы читали в наших детских книгах), а сейчас на водных лыжах летят за моторной лодкой полурусалки-полушкольницы и потом, лохматые и босые, выжимают апельсины в толстый ледяной стакан там, где играет музыка и качаются пальмы, шелестя особым звуком, металлическим, похожим на человеческий шепот.
Потом я иду в "черные" кварталы Майами, на окраину этого большого приморского города. Люди там бедны, не умеют не только вертеть гайки на заводе, но не умеют и вставить стекло в окне, починить забор, прополоть грядку. Некоторые дома полны детей, преимущественно голых, и в кухне и в спальне чувствуется матриархат - она носит, рожает, кормит, стирает, работает поденно, она добытчица и власть в доме, он - весит вдвое меньше ее и весь день сидит на завалинке, курит самокрутки и очень часто, соскучившись и обалдев от ее крика и подзатыльни-ков, уходит куда глаза глядят. Подрастает старшая дочь, появляется другой. Начинается, вернее, продолжается та же история, пока в доме не проваливается пол, и тогда семейство переезжает в пустой дом рядом, стоящий брошенным не то с прошлого года, не то с незапамятных времен.
Брошенных домов много на окраинах больших и малых городов и деревень, есть брошенные лавки, брошенные церкви, гаражи, мастерские, с выломанной дверью, с разбитым окном, с балконом, висящим над пропастью. Дешевле построить новое, чем починить старое. Тысячи брошенных автомобилей лежат брюхом вверх, в братской могиле друг на друге, и брошены дома стрелочников - устарела система, они больше никому не нужны. И однажды, в одном из южных штатов, я забрела на брошенный аэродром. Это было одно из сильных впечатлений от меняющейся жизни, от мертвого "вчера", от разложения совсем еще молодого прошлого.
Аэродром был небольшой, провинциальный, с двумя настежь раскрытыми пустыми ангарами, в провалившуюся крышу одного из них полз солнечный луч и утыкался в кучу нечистот, лежащую у самого входа. По бокам было брошено два огромных грузовика и старый трактор, на слабом ветру скрипела и качалась какая-то металлическая ветошь над дверью в помещение, когда-то бывшее конторой, а посреди поля стоял старенький, кривой, облупившийся самолет, мест на двенадцать, с оборванным крылом. Я поднялась в него. Четыре голубя вылетели с шумом не от меня, а прямо на меня. Обивка сидений была срезана.
Kpyгом стояла тишина. На горизонте голубые горы, солнечный туман и жаворонки в нем, как дрожащие точки. Колыхание сахарного тростника под расчесом ленивого, знойного ветра. Труп собаки в кустах рано поспевшей, но мелкой, твердой, одичавшей малины.
От этого впечатления тянутся другие: брошенные карусели (ушли балаганы в другое место), заколоченные гостиницы (вышло место из моды, никто сюда больше не ездит), провалившаяся шахта - дедушка рыл землю, нашел серебро, отец плюнул на серебро: вилки-ложки некому чистить, - ушел из этих мест, теперь из нержавеющей стали вилки-ложки делает, сын на золоте, говорят, ест. Не заглянуть ли в колодец серебряной шахты? В него можно спуститься, если придет желание, бадья до сих пор висит над черной ямой.
На автострадах стоят знаки: максимальная скорость - 60 миль в час. Но на автостраде, режущей континент по диагонали, в этот ранний час нет никого. И я нажимаю педаль газа и делаю 80 миль, и так - в течение трех часов кряду, пока мне не становится ясным, что уже не восемь часов утра, а одиннадцать и я не одна на свете. Я замедляю ход на шестьдесят, на сорок, беру боковую дорогу, раз петля, два петля, и я у стеклянного стенда, откуда на подносе мне выносят стакан ледяного молока и горячий блин, облитый сиропом. Поднос на крючках висит на автомобильном окне, пока я ем и пью, из стенда доносится песенка, она же звучала где-то вчера вечером, ее можно поймать в автомобильном радио, стоит только нажать кнопку.
Автомобиль был куплен в зеленой, пахнущей цветами Индиане, и, когда я купила его, я села и поехала домой, в штат Коннектикут - тысячу миль, забыв спросить впопыхах, где, собственно, зажигаются фары. Рассмотреть было некогда, и когда я вечером, проехав пятьсот миль за день, стала тыкать в какие-то кнопки, то сначала заиграла музыка, потом стал на меня дуть горячий воздух, потом холодный, потом открылась пепельница и наконец на ноги стало что-то капать. Но все обошлось, огни в конце концов зажглись, и было давно пора, потому что, пока я играла с кнопками, стало совсем темно.
По режущей континент диагональной автостраде я теперь ехала в Чикаго. Громадный город начинает чувствоваться за пятьдесят миль: какие-то знаки машут навстречу красными и черными буквами, какие-то столбы, точно эйфелевы башни, бегут здесь и там по полям и лугам Огайо и Иллинойса. Вдруг пропадают леса. Вдруг веет каким-то беспокойством на широкой автостраде: там, там, далеко за горизонтом, за тем поворотом и еще тем что-то окажется, что-то прервет зеленую, чистую, ясную монотонность дороги. На каком-то сплетении двух или трех автострад еще можно будет мгновенно решить: обойти, избежать или ринуться в самую гущу, но сплетение мелькнуло, и я не воспользовалась им, пронеслась, и теперь мне выхода нет: сейчас мне откроется чугунно-стальное, многовольтажное, химикалиями пропитанное пространство. А можно было обойти с левого фланга, только издали почувствовать биение, удары, дрожание великана на горизонте. По режущей параболе я въезжаю в грохочущий массив Чикаго.
В первый раз я приехала в Чикаго поездом, во второй - спустилась в него с самолета - с маленького скрипучего самолета местного назначения, чтобы потом пересесть в огромный джет, и ночью на Чикагском аэродроме который сам по себе целый город - долго ждала пересадки. В третий раз я въехала в него на машине, сквозь его туннели, по воздушным мостам, прямо на берег Мичиганского озера. О Чикаго я написала в моем рассказе "Черная болезнь". Чикаго для меня - потому что я не жила в нем, а только была проездом - остался городом фантастических перспектив, роскоши и нищеты, элегантности и грязи, удушающей вони и нежного запаха цветов в парке, у набережной. О Чикаго много было сказано в плане реальном. Чикаго, как Палермо, как Неаполь, нужно увидеть, увидеть чудовищную смесь красоты и мерзости, но не тогда, когда пелена снега сглаживает в нем его безобразие и величие, и не тогда, когда дождик прикрывает их своей вуалью, а тогда, когда в невыносимой жаре и влажности террариума, в дрожащем и звенящем зное, висящем над городом и в городе две или три недели, город весь дрожит, и звенит, и стучит в температуре выше температуры человеческого телa.
Я могла бы начертить дугу, спираль, круг, вписанный в круг треугольник или прямоугольник, чертя рисунок на карте, где я мчалась ранними утрами по дорогам Миссури, Кентукки, Вирджинии, из картофельных полей впадая в сеть рек, несясь мимо озер, прошивая туннели Аппалачи. Я хотела бы долго смотреть на скалы Дакоты, где высечены ставшие мифическими фигуры (а когда-то ходили в сюртуках, и парикмахер их стриг, и дантист им рвал зубы); я хотела бы стоять на краю Большого каньона, когда он черно-розовый, и, может быть, оказаться-таки в Оклахоме, в час заката солнца, а в полнолуние под чугунными ангелами решеток Нового Орлеана; взглянуть на Южную Каролину хотя бы одним глазом, чтобы узнать, правда ли, что это лучшее в мире место, как утверждал пассажир океанского парохода, удивляясь, что я отправляюсь в Америку по шпалам, и наконец увидеть Тихий океан. И это, конечно, будет, потому что от меня зависит: быть ему или не быть. У меня только свои капризы, нет чужих, и нет ни детей, ни внуков, ни правнуков - то есть нет свидетелей моей старости, а потому нет ни старческой болтливости, ни заедания века других.
Насчет болтливости, впрочем, я не уверена: не слишком ли много сказала я здесь о природе, о которой еще Чехов сказал: довольно, господа, довольно! (касательно каких-то лиловых обла-ков, но это не помогло, и до сих пор эти сиреневые тучки все еще треплются в небе, заполняя, когда нужно, строку, как пакля, шпаклюющая стену). Довольно о пейзаже с форелевыми реками и птицами колибри, летающими стоя в воздухе Вермонта, довольно о городах, больших и малых, гигантских, многомиллионных, состоящих, собственно, из десяти городов, и о маленьких, с одной только улицей, потонувших в догвуде и форситии, - в одном из которых я теперь живу. Если я не увижу всего, кто-нибудь увидит это моими глазами, когда мои глаза достанут из глазного банка щипцами и вставят в глазницы слепой девочки (или мальчика). Впрочем, пусть остается на этой странице и колибри, и догвуд. Я достаточно вещей утаила от читателя. Ведь как я уже сказала однажды: наряду с шестьюстами страницами текста есть в этой книге шестьсот страниц умолчаний, наряду с семью главами рассказа о "настоящей минуте прошедшего времени" ("Present moment of the past". T.S. Eliot) есть семь глав немоты, тишины и тайны.