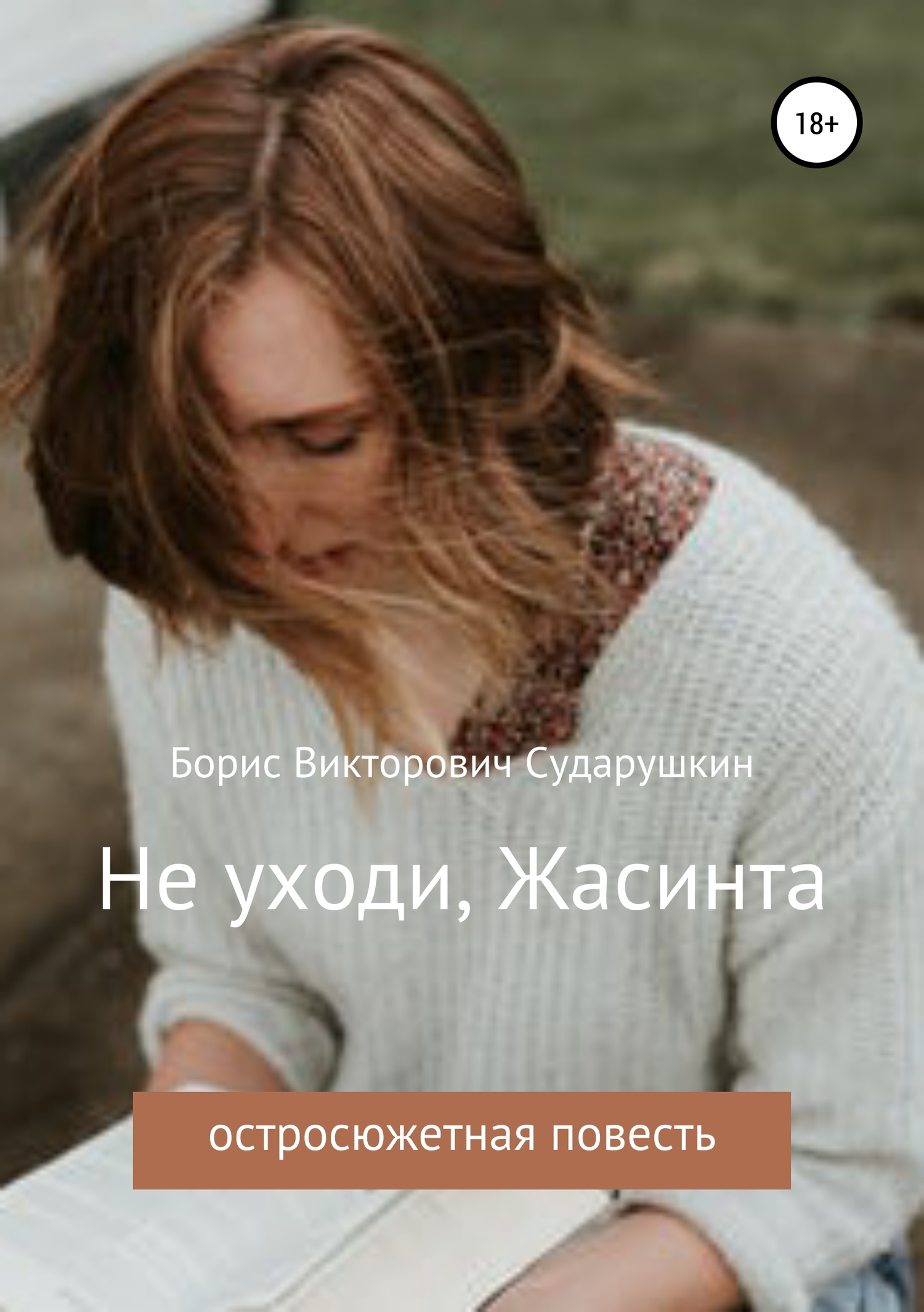не в теплой кровати, а на улице.
Мои ноги понесли меня на кухню, и там задумчиво сидел перед распахнутым окном Герман и пил чай.
– Можно что-нибудь перекусить? – спросил я, – а то я, боюсь, не доеду.
– Конечно, – кивнул он, налил мне чай и подал хлеб с ветчиной. – Наша кухарка и Нина уехали вчера с мамой и бабушкой. Мы одни в доме, – он посмотрел на меня как-то странно. – Твой дядя, он…
– Да, он в доме ночевал, – ответил я и Герман смутился.
– Значит он…
– Да, значит, старик его надкусил, как гнилое яблоко, – я откусил бутерброд, глотнул горячий чай и почувствовал, как мой желудок успокаивается. – Какие странные обстоятельства у нашего знакомства…
– Да, уж, – усмехнулся Герман, – страннее не придумаешь.
– Передай Лане от меня привет, скажи ей, что она замечательная девушка, и я очень надеюсь, что она, куда бы ни поехала и где бы ни была, будет счастлива.
Он кивнул.
– Обязательно передам. Кстати, с днем рождения тебя.
– У меня сегодня день рождения? – изумился я, а потом хлопнул себя по лбу: – Точно, я и забыл! Но откуда ты знаешь?
– Ты сам вчера говорил, – засмеялся Герман. – Забыл?
– Точно, забыл.
– Знаешь, я хочу подарить тебе подарок. Подожди меня здесь, – он вышел и вскоре вернулся с маленькой оловянной фигуркой мускулистого усатого мужчины в полосатых штанах и подтяжках, держащего на весу две огромные гири. – Это силач Джонни. Моя любимая детская игрушка. Она всегда помогала мне, когда я был болен. Я не выпускал ее из рук, засыпал и ел с ней. Я смотрел на этого силача и мечтал, что когда-нибудь буду таким же… Я хочу, чтобы ты ее взял. Это самое лучшее, что я могу подарить тебе.
Я был растроган, и мы обнялись.
– Береги себя Герман, – сказал я. – Хорошо?
– Хорошо. И ты себя береги. Может, когда-нибудь свидимся еще.
Спустившись в гостиную, я увидел по-прежнему спящего Милона, который развалившись на диване, вовсю храпел, а из его рта, на невинно девичью подушку, тонкой струйкой стекала слюна. Рядом с ним валялся опрокинутый бокал с засохшими каплями вина. На удивление, он быстро проснулся, как только я начал его тормошить.
– А? Что? – он заспанно затрепыхался и поднялся с дивана, оглядывая вокруг себя обстановку. – Ну и дела, – пробормотал он, одергивая помятый пиджак, и, взирая на меня обрюзгшим, начисто лишенным былого превосходства, взглядом, спросил: – Пора ехать?
Я кивнул. Мы загрузили багаж и сели в карету, покидая дом мечты, который сулил Милону столько возможностей, и которым не суждено было сбыться. По дороге домой он все чаще молчал, чем говорил, и если и говорил, то чаще ворчал на дорогу, на кучера, на снующих людей, лошадей и вообще все, что попадалось ему на глаза. В Холмы мы въехали только через шесть дней, так как Милон все время задерживал нас в дороге: то не хотел рано покидать постоялые дворы, то ему мешал дневной свет, то он чувствовал себя разбитым и усталым. Ян удивлялся ему, а я – нет. Я молчал, зная, что с ним происходит, и несколько раз пытался задать себе вопрос: «Почему я его не спас? Ведь можно было мне с Яном вытащить его пьяного в карету, или даже отвезти в гостиную». Но я каждый раз, когда этот вопрос всплывал, отмахивался от него как от назойливой мухи.
К дому я подъезжал с беспокойным сердцем: там все было уныло, серо и скучно. Все было похоже на невзрачную серую улитку, медленно ползущую по щербатому забору и оставляющую после себя тягучую, монотонную слизь.
На шум подъезжающей кареты вышла Ясинька, дворовой мужик и Сойка: по сроку мы должны были приехать позже, поэтому лица у всех были озадачены. И потому, как из коляски грузно вывалился Милон, будто медведь из берлоги, покусанный блохами и изъеденный плешью, они поняли, что поездка прошла неудачно, и быстро, не задавая никаких вопросов, помогли с выгрузкой и разбежались по своим местам.
Сойка несколько раз попыталась заглянуть в мои глаза, чтобы узнать, что же произошло и есть ли для нее плохие вести, но я старался не поднимать голову, чтобы не встретиться с ней взглядом. Я не хотел ее расстраивать и обманывать. Я знал, что она все поймет, что чувств, которых она ждала, у меня нет.
Вечером, как я и ожидал, она робко постучала в мою дверь.
– Ты не хочешь поговорить? – тихо спросила она, войдя в комнату. – Ты целый день меня избегаешь. Я… я понимаю, что это конец? – на ее глазах заблестели слезы.
– Почему ты так говоришь?
– Потому что я все чувствую и хочу услышать правду, чтобы не мучиться. Я и так извела себе за эти дни… мне тяжело.
Я сел на стул и сжал голову руками. Что я мог ей сказать, что я подлый лгун и обманщик? Что я обманывал ее все это время, так как никогда по-настоящему и не думал на ней жениться? Что я намеренно, зная, что Милон никогда не оставит меня в покое, предал своего опекуна и благодетеля? Что я, возможно, болен, так как внутри меня сидит зло?
– Иларий, прошу, скажи правду, – повторила она. – Ты там полюбил другую?
– Нет, Сойка, я никого не полюбил там. Но от этого все не станет легче. Хочешь знать правду, я тебе скажу. Скоро здесь все изменится. Где-то через недели три, может больше, а может меньше, – я замолчал, а она, не отрывая взгляда от моего лица, продолжила ждать своей участи. – Когда все закончится, я уеду отсюда. Навсегда уеду. Я хочу так, – ее лицо исказилось и она бесшумно, как невесомая, опустилась на стул. – Я не могу больше здесь находиться, это не моя жизнь.
– Милон все-таки женит тебя на городской? – прошептала она.
– Нет. Никакой свадьбы не состоится. Милон ничего еще не знает о моих намерениях, и не узнает… он скоро умрет. Он смертельно болен, это выяснилось там, в городе. И ты меня можешь осудить, но он заслужил эту смерть.
Она ахнула и закрыла рот руками.
– Как ты можешь так говорить, он же спас тебя?
– Он меня спас? – со злостью воскликнул я. – А я не знаю, кто меня спас. Милон ли, а может старик, который, как тень ходит за мной. И зачем меня все спасают? Зачем ты меня спасала? Может, мне нужно было умереть еще тогда, когда я не знал тебя! Может, это моя судьба была?
– Что ты такое говоришь? Я не узнаю тебя… – Сойка поднялась и попятилась