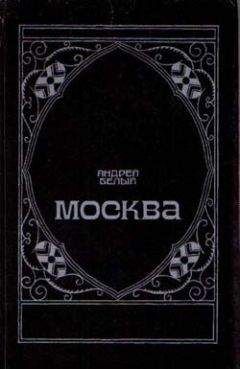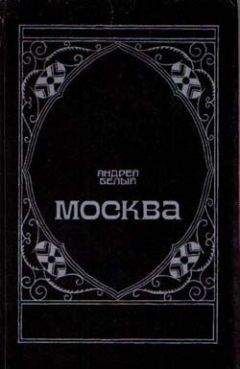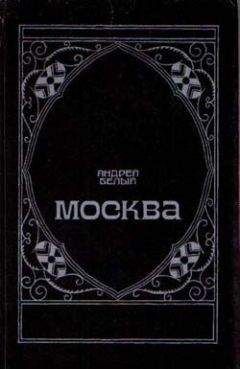Это Наденька знала; когда обдавал ее грацией, точно стараясь, обнявши за стан, повертеться пристойною полькою с нею, она вспоминала, как зло он пищал на воспитанниц; с неудовольствием, даже со страхом она отмечала его появления — по воскресеньям, к обеду; входил он франчёным кокетом, обдавши духами изнеженно; и предавался словесности с ней, иль рассказывал ей: Бенвенуто Челлини, мозачисты и медальеры — да, да! Василиса Сергевна — пленялась:
— Каков привередник: совсем — капризуля.
И веяло — атмосферою барышень.
— Что же, пойдемте в гостиную мы…
И прошли.
Бронзировка, хрусталики люстры; лиловоатласные кресла с зеленой надбивкой, диван, — чуть поблескивали флецованным глянцем; трюмо надзеркальной резьбой, виноградинами, выдавалося из сумрака; а от обой, прихотливых, лиловолистистых, подкрашенных прокриком темно-малиновых ягод, смеющихся в листья, рассказывали акватинтовые[15] гравюры про бурное заседание Конвента[16], паденье Бастилии[17] и про Сен-Жюста[18], глядящего сантиментально на голубя; сели за столиком; и — перелистывали альбомы.
Перелетая с предмета к предмету, отщелкивал Кувердяев словечками, как кастаньетами; Надя казалася лилиевидной; профессор — раскис, выставляя коричневый клок бороды; он посапывал носом.
— Да, кстати, Василий Гаврилыч назначен на…
— ?…
— …пост министерский — да, да!
Благолепов, Василий Гаврилыч, недавно еще только ректор, теперь — попечитель, был вытащен в люди Иваном Иванычем: да, вот, — чахоточный юноша, лет восемнадцать назад опекался — вот здесь, в этом кресле; ведь вот — куралёса! Он, старый учитель, сидит в этом кресле, забытый чинушами; а ученик его…
На Кувердяева полз раскоряченный нос; и — очки на носу; потащили все это два пальца, подпертые к стеклам:
— Вы, батюшка, знаете ли, развивайте, — ну, там, — лакейщину: что Благолепов? Он есть — дело ясное — тютька-с!
Ладонью в колено зашлепал, кидаясь словами:
— Так может и всякий; вы тоже, скажу — лет через десять сумеете — да-с — попечителем сделаться.
Кресло скрипело, поехала мягкая скатерть со столика:
— Вы распеваете вот кантилены[19] — я вам говорю; предо мною-то, батюшка, шла вереница таких заправил-с: Благолеповы — все-с, — прокричал не лицом, а багровою пучностью он, — я протаскивал их — дело ясное: скольких подсаживал, батюшка, — не говорите — усваивали со мною они покровительственную, какую-то, чорт подери… — не нашел слова он, передергивая пятью пальцами, сжатыми в крепкий кулак вместе с ехавшей скатертью.
— Выйдет такая скотина в… в…, — слов искал он, — в фигуру, казалось бы: тут водворить в министерстве порядок и… и… дело ясное! Нет, — говорю: продолжают невнятицу. А результаты? Гиль, бестолочь и авантюра, — я вам говорю, — обливался он потом, мотаяся трепаной прядью.
— Писал в свое время я им докладные записки: Делянову, Лянову, Анову, — чорт подери — и другим распарш… членам Ученого Комитета; писал и Георгиевскому: обещал; ну, — и что же? Записки пылятся под сукнами: да-с!
Он вскочил, собираясь пустить толстый нос в Кувердяева, бросил очковые стекла на лоб; краснолобый ходил:
— Был момент — говорю: наша жизнь оформулировалась; и с утопиями — мы покончили там — с революцией и с катастрофами… Крепла Россия… И можно было бы, я вам говорю, — помаленьку, — разбросить сеть школ и добиться всеобщего — да-с — обучения. Приняли же во внимание мою докладную записку об учреждении университета в Саратове, — он поглядел, но ему не внимали: — сидели чинуши и немцы-с. И этот великий князишка, — был с немцами-с; я говорю — незадача!.. Царя миротворца-то[20] — нет, говоря рационально; на троне сидит — просто тютька-с — я вам говорю… Посадили они генерал-губернатором — чорт подери — педераста (еще хорошо, что взорвали[21]). Что делали все Благолеповы? Да перетаскивали педерастов; ведь вот: Лангового-то — помните?… Тоже вертелся!
И сел, задыхаясь, в разлапое кресло; и темные тени составили круг, опустились, развертывая свиток прошлого.
С детства мещанилась жизнь; ухватила за ухо рукой надзирателя; бросила к повару, за занавеску, и выступила клопиными пятнами, фукая луковым паром у плиты.
Без родных, без друзей!
Задопятов, соклассник, захаживал; после раздулся уже и седовласую личность, строчащую все предисловия к Ибсену (Ибсен — норвежский рыкающий лев, окруженный прекрасною гривой седин), — Задопятов, теперь превратившийся в светоча русской общественной мысли и исправивший два юбилея, известный брошюрой «Апостол любви и гуманности», читанной им в Петербурге, в Москве, в Нижнем Новгороде, в Казани, в Самаре, в Саратове, в Екатеринодаре, печатающий — правда, редко — стишки:
Я, мучимый скорбью, встаю
Из пены заздравных бокалов
И в сердце твое отдаю
Скрижали моих идеалов
Пред пошлым гражданским врагом
Пусть тверже природного кварца
Пребудут в сознаньи твоем
Заветы прискорбного старца. Он — знамя теперь и глава «задопятовской» школы; и критик, укрывшийся под псевдонимами «Сеятель», «Буревестник», писал, что: «Никита Васильевич — лев, окруженный прекрасною гривою седин», перефразируя стиль и язык «задопятовской» мысли; и — кстати заметить: о сотоварище, друге всей жизни, профессор Коробкин однажды совсем неуместно сказал, что он — «старый индюк и болтун».
С Задопятовым он под линючею занавеской боролся с невнятицею; Задопятов заметил: «История просвещения распалась на эры: от Гераклита невнятного до Аристотеля ясного — первый этап; с Аристотеля — к Конту[22] и Смайльсу — второй; Смайльс — преддверье третьего».
И с «Бережливостью» Смайльса уселся Коробкин; и — ясность сияла ему; он устраивал мыльни клопам, прусакам, фукам луковым, повару, переграняя все — в правила, в принципы, в формулы; так он и выскочил в более сносную жизнь: кандидатской работою «О моногенности интегралов», экзаменом магистерским, осмысленной заграничного жизнью (в Оксфорде, в Сорбонне), беседами с молодым математиком Пуанкарэ[23], показавшим впервые ночные бульвары Парижа («Аллон, Коропкин, лэ булевар сон си гэ»[24]), диссертацией: «Об инварьянтах» и докторской диссертацией: «Разложение рядов по их общему виду»; гремевшей в Париже и Лондоне книгою «О независимых переменах» пришел к профессуре; тогда лишь позволил себе взять билет на «Конька-Горбунка»; очень скудные средства не позволяли развлечься; и все уходило на томики или на выписку математических «цейт-шрифтов» и «контрандю»…
Таковы достижения многих усилий, теперь попиравших невнятицу: повара, комнатку на Малой Бронной (с пейзажем помойки), и вот — занавесочка лопнула; томики книг разбежались по табачихинскому флигелечку, где двадцать пять лет он воссел, вылобанивая сочиненье — себя обессмертить: да, — так «рациональная ясность» держала победу; невнятица — выглядела из окошечка желтого дома напротив.
Боялся невнятиц: едва заподозрив в невнятице что бы то ни было, быстро бросался — рвать жало: декапитировать, мять, зарывать и вымащивать крепким булыжником; под полом пленная все же сидела она, — чорт дери: перекатывала какие-то шарики; он все боялся, что — вот: приоткроются двери, и фукнет кухарка отчетливым луковым паром; по рябеньким серым обоям прусак поползет.
Насекомых боялся.
Скрижаль мирозренья его разрешалась в двух пунктах; пункт первый: вселенная катится к ясности, к мере, к числу; пункт второй: математики (Пуанкарэ, Исси-Нисси, Пшоррдоннер, Швебш, Клейн, Миттаг-Лефлер и Карл Вейер-штрассе) — уже докатились; таким же путем вслед за ними докатится масса вселенной, вопросам всеобщего обучения он отдавался и верил: вопрос социальный — лишь в этих вопросах.
Он членам Ученого Комитета об этом писал. Но проекты пылели в архивах, а он углублялся в свои перспективы, к которым карабкался с помощью лесенки Иакова, — до треугольника с вписанным оком, где он интегрировал мир, соглашаяся с Лейбницем: мир — наилучший.
Поэтому он ненавидел и привкусы слов: революция; он полагал, что толчок есть невнятица.
В мыслях он занял незанятый трон Саваофа — как раз в центре «Ока»: зрачком!
При царе-миротворце он правил вселенною; при Николае — толчки сотрясали уж плиты паркетиков этого вот флигелька; и профессор взывал к рациональным критериям; он потрясал карандашиком: «Ясности, ясности!» Требовал все пересмотра учебного плана Толстого. Но члены Ученого Комитета — молчали. Сперва был готов уничтожить «япошек» и он; за Цусимою — понял: народ, где идеи прогресса ввелись рационально, имел, чорт дери, свое право нас бить; революция 1905 года — расшибла: он с этой поры все молчал; и когда раздавалось ретроградное слово «кадеты»[25], — в моргающих глазках под стеклами виделось бегство зрачков, перепуганно вдруг закатавшихся в замкнутом круге.