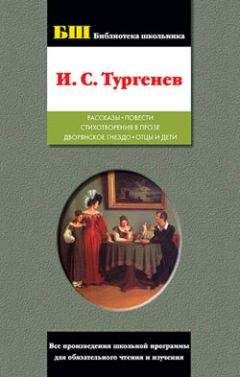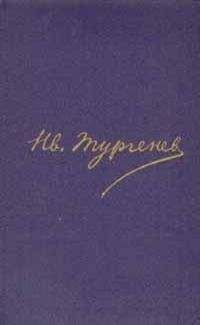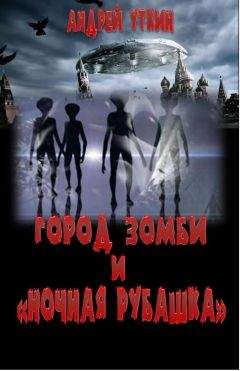Так продолжалось, пока он не привел домой первую девицу. Тетя Лида была дома, а мать на второй работе. Потом была другая, третья...
Теперь стоило ему прийти домой, как она сразу приглушала свою радиолу: пришел один или с кем-то еще? Если не один, закрывалась на ключ и ставила пластинку, чаще других "Болеро" Равеля. Он начинал колотить в стену, она выключала музыку, после чего хлопала входная дверь. И допоздна не возвращалась.
Бывали случаи, когда девицы его останавливали, прислушиваясь: "Подожди... это Чайковский?" А одна, недавно приехавшая в столицу из Белоруссии поступать во ВГИК, вдруг заплакала, потом с негодованием его оттолкнула, оделась и убежала.
При встрече некоторые подружки его потом спрашивали: кстати, эта соседка твоя... у тебя с ней точно ничего не было?
3
Демобилизовавшись, он попытался поступить в Литинститут и в жаркий июльский день после окончания приемных экзаменов в тесной толпе абитуриентов высматривал (а вдруг?) свою фамилию в списках зачисленных.
Казалось, тройка по сочинению, что еще нужно, чтобы сбылись самые потаенные страхи: да, он самый неудачливый из посредственностей и самый посредственный среди неудачников.
Он стал выбираться из толпы абитуриентов, наступая на чьи-то ноги и стараясь не наткнуться на взгляд такого же горемыки. Вдруг услышал чей-то рокочущий бас, каким объявляют о начале войны или о ее окончании, а затем увидел группу "стильных" мальчиков и девочек, к которым невольно прислушался.
В этой атмосфере общего уныния и разочарования они громко, как если бы кроме них здесь никого больше не было, обсуждали: у кого будем обмывать? У Робика свободная дача, но пилить туда сорок кэмэ, в такую жару неохота, у Ромы предки до вечера торчат в гостях, а значит: "Даю гарантию - раньше Германна к старой графине не нагрянут, но его "Грюндиг" нуждается в ремонте, там нужно заменить лампу, а ее здесь не достанешь".
Обладателем дикторского баса был тот самый Робик, настоящий карлик с бакенбардами, с самым высоким напомаженным коком и на самой толстой каучуковой подошве, уверенно державший за талию девицу с ангельским личиком и выше его на голову.
"Да это же Боб! - услышал Саша сзади чей-то голос. - Ну, помнишь, он представлялся: внук посмертно реабилитированного наркома? И, когда все нажрались, изображал "Крошку Цахеса"? Ты же под стол уполз! А это его Лиза, ну да, та самая, я тебе рассказывал..."
Саша не сводил взгляда с Лизы - никогда он не видел столь нежного и точеного лица.
Ее безразличный, безоценочный взгляд мазнул по лицам подобно тусклому лучу фонаря, в котором сели батарейки.
Он уже было совсем собрался уходить, когда увидел знакомого по газетным и журнальным портретам маститого писателя Т. и услышал его негромкое восклицание: "Боже, кого я вижу! Робик, Лизочка, вы ли это? Как вы выросли и похорошели!"
Безусловно, этот комплимент полностью относился к Лизе, ибо представить себе Боба еще более уродливым и низеньким было затруднительно.
Тем не менее он убрал руку с ее талии, чтобы обменяться с Т. рукопожатием, а она изобразила фигуру узнавания - приоткрыв ротик и сделав небрежный книксен.
"Не забыли еще, как я учил вас плавать в Коктебеле? Как мы с моей Оленькой и вашими родителями поднимались на Карадаг? Кстати, Лизочка, ты в чьем семинаре, у Петра Григорьевича или у Якова Савельевича?"
"Я у Мирона Александровича".
"Так ты теперь стихи пишешь? А пьесы совсем забросила? Передай ему, что я обязательно приду тебя послушать!"
Т. откланялся, а мальчики и девочки из окружения Лизы и Боба сменили тему - наперебой принялись перемывать косточки своих руководителей семинаров, обнаружив изрядные познания в том, что касалось их привычек и склонностей.
При этом нашли, что Лизе повезло больше других.
В дверях Саша услышал чей-то громкий, срывающийся от обиды голос и обернулся.
Невысокий курчавый парнишка, только что безуспешно искавший себя в списках, забрался на стол и принялся громко читать свои стихи.
"Ха! - пробасил Боб. - Если этот чувак думает, что он Данте, тогда я Дантес!"
Его окружение громко заржало. Стихи, действительно, были не в жилу.
Саша хлопнул дверью и окунулся в бензиновое марево московского лета.
Дома мать не скрывала облегчения: ну, наконец-то, теперь эта блажь пройдет и он займется делом. Тетя Лида, прежде ей поддакивающая, вдруг жалостливо охнула, прикрыв рот рукой, и спросила, на чем он срезался. Неожиданно для себя он ответил, что не знал, кто такой Крошка Цахес.
"Ну как это можно не знать? - удивилась она. - Хоть бы меня спросил..."
И принесла ему сборник сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
4
Он устроился на работу в строительное управление, где мать подрабатывала уборщицей, поступил в строительный техникум и одновременно принялся наверстывать упущенное за три года армии, подстегиваемый безденежьем, любовным голодом и графоманским честолюбием.
Однако столь разнородные желания совмещались плохо: девушки, деньги и рукописи не возвращались.
Но его это лишь распаляло и подстегивало, усиливая нетерпение. Ему хотелось всего и сразу: проснуться знаменитым, жениться с квартирой, - и с еще большим рвением он сочинял и заводил новые романы, неизменно заканчивающиеся отказами, пощечинами и редакторскими корзинами.
Так и жил в одной комнате с рано состарившейся матерью и в одной квартире с тетей Лидой. Они одинаково переживали его неустроенность, смолкали, когда он заходил на кухню, или переводили разговор на другую тему.
То же самое происходило на работе. Он стал замечать, как все замолкали в курилке, когда он туда заходил. И несколько раз заметил в зеркале, как за его спиной крутили пальцем у виска.
Отходил он только в "Пегасе", слушая чужие стихи, прозу и язвительные до слез и хлопанья дверью - комментарии Голощекина. Здесь он находил утешение: значит, не один он такой. Будет, с кем поговорить в психушке.
А в редакциях ему все чаще говорили, будто он подражает тем или иным авторам. Иногда называли тех, про кого он даже не слышал.
По совету Голощекина, утверждавшего, что это еще не самая хамская форма отказа, он с ними не спорил. Ибо страх, что там тоже решат, будто у него поехала крыша, был сильнее боязни проявить невежество. Он доставал эти книги, но, как правило, не дочитывал до конца, ибо не находил ничего общего.
На любовном фронте было без перемен. Как он себя ни распалял, ночь с любой из девушек не шла ни в какое сравнение с теми несколькими минутами, когда он впервые познал женщину.
Это развивало воображение, но одновременно вело к очередным запоям, особенно участившимся после смерти матери.
Рак гортани душил мать около года. После ее похорон он долго приходил в себя, запирался, мог целыми днями лежать, глядя в потолок.
На похороны из родственников приехал только старший брат матери дядя Ваня, живший в Кимрах. На поминках по обыкновению он стал рассказывать про Австрию, куда попал семнадцатилетним мальчишкой в 45-м, в конце войны, сразу после того, как его забрали из землянки, где он жил с сестренкой и матерью, в действующую армию. Он всегда рассказывал одно и то же - не про бои, а насколько все у них там зажиточно, удобно и не имеет сноса. Никаких бараков или землянок, только аккуратные домики, и койки в них широкие, пружинные, с пуховыми перинами и никелированными спинками.
Сначала, после демобилизации, он не столько рассказывал, сколько хвастал, показывая всем встречным и поперечным, сколько добра оттуда привез. И добавлял, что не прочь снова там побывать. Слушатели переглядывались, их становилось все меньше, и дядя Ваня опомнился лишь, когда их осталось двое в погонах, в кабинете с портретами вождей. Там его уже не столько слушали, сколько расспрашивали. Потом его слушателями стали соседи по нарам, конвоиры и вертухаи. В конце концов кто-то наверху махнул на него рукой, и дядю Ваню выпустили на свободу, разрешив жить не ближе сто первого километра от Москвы. А он и там продолжал рассказывать сагу про свою Австрию грузчикам на станции, где работал, соседям по дому и их женам, за что бывал неоднократно бит.
Дядя Ваня умер через три месяца после мамы. Ничего хорошего, кроме Австрии, он в своей жизни так и не увидел.
Когда Колотов после похорон матери вышел на работу, он сразу попросился в командировку - куда-нибудь подальше и сроком подольше. И так ездил несколько раз. По возвращении в Москву или следовал всплеск энергии и он писал днями и ночами, после чего выдыхался и начинался запой, или запой наступал сразу.
Однажды случилось то, чего он боялся и всячески избегал: утром он обнаружил себя в постели тети Лиды. Она отвернулась, встретив его ошалелый взгляд, быстро стала одеваться, а он в чем был выскочил из ее комнаты...
Как-то он прилетел из Волгограда с тяжелым гриппом и высокой температурой, и тетя Лида вызвала "скорую", но ехать в больницу он отказался, и она неделю выхаживала его - приносила лекарства, поила чаем с малиной, кормила с ложечки.