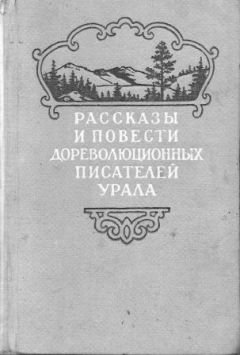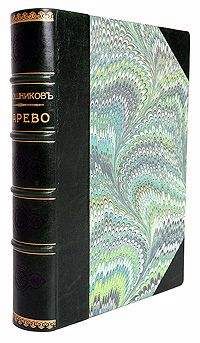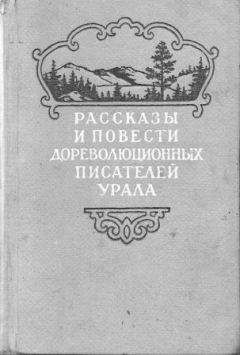— Запьет, опять начнет куралесить.
— А и задал же он мне баню! Такую задал баню, что ну! Думаю, окончательно теперь под суд, на скамью подсудимых! — уже совсем весело говорил старшина. — Стало быть, без сумления?
— Ступай с богом!
— Ах ты, господи!.. Ведь совсем было я испугался… Ах, шут те!.. Ну!..
И успокоенный старшина в наилучшем настроении духа вернулся домой.
IV
В пылу гнева Псалтырину представлялось увольнение Ирода таким простым, необходимым и справедливым делом, что он не думал о его последствиях, но по мере того, как раздражение его проходило, начали выступать разного рода препятствия и неудобства. "Не уволишь, не уволишь, — ехидно шептал ему насмешливый голос, — где тебе! Без Ирода ты, как без рук… Начнется томительная передача имущества, которая протянется недели, месяцы… Ирод будет тянуть, путать, запутает и тебя… Откроются такие вещи… Тут только копни, как пойдет сюрприз за сюрпризом, и бог знает еще, чем это может кончиться… Ирод — делец, он все помнит, все знает, а ты ленив и отвык от труда, — где тебе с ним бороться? А теперь ты с ним как у Христа за пазухой…" "Действительно, дьявольская память, башка! — думал Псалтырин и через минуту опять твердил: — И все-таки необходимо уволить…" Вдруг он вспомнил, что Ирод не получал жалованья за пять лет, что при увольнении надо его рассчитать, а касса пуста; вспомнил, что в кассе не хватает трех тысяч, растраченных им, Псалтыриным, в разное время на неотложные надобности, и что, если бы случилась внезапная ревизия, самому Псалтырину не миновать суда. Вспомнил, как не раз в подобных случаях выручал его Ирод, вкладывая свои деньги…
"Ну, хорошо, положим, прогнать — немудреная штука, но кем я его замещу? Кто пойдет на триста рублей в год? Писцы больше получают!.. Извольте найти толкового и честного человека за триста рублей!.. Найдутся охотники, слов нет, но ведь такие же мерзавцы и еще, кроме того, дураки… Вор… Но как не воровать при таком содержании? Разве возможно человеку семейному прожить на триста рублей хоть сколько-нибудь по-человечески?.. И чего жалеть добро, которое никому не принадлежит, о котором никто не заботится?.. Смешно изображать собаку на сене бог знает для кого и для чего!.. Говорят, Ирод притесняет народ. Но ведь это сущий вздор!.. Будь здесь настоящий хозяин или хоть честный смотритель, взвыли бы все в один голос, потому что благодаря Ироду население пользуется многими льготами, и контрибуция его не столь обременительна… Он сам живет и дает жить другим… Он будет уволен, кому станет лучше? — Никому. Вор, вор… Но кто теперь не вор? Где они, эти честные люди? Ирод — мелкая сошка, нуль, ничтожество, без воспитания, без образования, разве можно его строго судить? Есть покрупнее его мерзавцы, и мы пожимаем им руки, свидетельствуем им свое глубочайшее почтение, знакомство с ними считаем за особую честь… Да, да, это вовсе не так просто".
Псалтырин ходил по комнате, лежал на диване, курил и бормотал с негодованием: "Ну не мерзавец ли? Рвать с нищих, с погорельцев, с несчастных, отнимать последнюю рубашку", — то думал через минуту: "Разве он один? Разве не везде одно и то же: грабеж, насилие без стыда, без совести, без малейшей жалости к человеку?.."
Вечером неожиданно явился Голубев и, поклонившись, скромно стал у дверей. Псалтырин страдальчески нахмурился, съежился и не знал, что сказать. Голубев сам начал разговор.
— Я до вашей милости, — сказал он.
— Что такое?
— Пришел посоветоваться. Меня Дубинин на службу зовет. Шестьсот жалованья, место хорошее. Уж вы меня извините, хочу от вас уходить.
— Что такое? Что ты городишь? — вскричал Псалтырин с испугом и побледнел. — Почему? Что за причина?
— Причины никакой, а только что боюсь хорошее место пропустить. Сами знаете, я здесь только триста рублей получаю.
"Финтит, мерзавец", — мелькнуло у Псалтырина в голове, но он сейчас же подумал: "А если в самом деле уйдет? Отчего ему не уйти, если место хорошее?"
— Привык я здесь, положим, на родительском месте, — продолжал Ирод кротким голосом. — Что жалованье маленькое — и это бы ничего, только что нету больше никакой моей возможности.
— Какой возможности?
— Грозятся убить. Сами знаете, какой здесь народ: пропадешь ни за копейку. Уж лучше уйти от греха.
— Убить?.. Что за нелепость? За что? Почему?
— За что? Известно, за мое за усердие. Разве мало у нас неприятностев? Из-за одного лесу, из-за покосов, из-за росчистей, — сущая беда! Я казенные интересы соблюдаю, так они меня за это съесть готовы. Вон теперь говорят: "Убьем, говорят, как собаку".
Псалтырин стал его уговаривать.
— Послушай, Ирод, ведь это же пустяки. Ты не первый год служишь, мало ли что говорят! Конечно, я тебя держать не могу: твоя воля, как хочешь, но если нужен мой совет, то не советую. Что такое Дубинин? — Кулак, самодур, бог его знает, как он там. А здесь ты дома, привык к делу и к тебе привыкли… Впрочем, как знаешь.
— Не придумаю, что и делать, — говорил Ирод, разыгрывая роль беспомощного человека. Наступило молчание. Псалтырин в задумчивости ходил по комнате, Ирод терпеливо стоял у дверей.
— Я понимаю, что триста рублей — ничтожное содержание, — начал Псалтырин. — Ну, я постараюсь прибавить… ну, четыреста, пятьсот, может быть…
Ирод молчал.
— Подумай. Я не советую, а там, как знаешь.
— Вчера мне человек один говорил: поберегайся, говорит, так и так, что Ионычу было, то и тебе.
— Вздор какой, — пробормотал Псалтырин, бледнея.
— Уж вы отведите им Сухой лог, прошу вас из милости: дело будет без греха. Хотелось мне поберечь это местечко, но теперь сам прошу.
Псалтырина точно что кольнуло. Он забыл и о Сухом логе, и о погорельцах, и теперь, вспомнив, нахмурился.
— Насчет Епанчина бора не беспокойтесь, укараулить его — пустяшное дело.
— Ты мне ручаешься? — спросил Псалтырин, хотя хотел спросить другое.
— Будьте покойны. Сам наблюдать буду.
— Ну, ладно. Делай, как знаешь.
Псалтырин вдруг почувствовал страшную усталость и в изнеможении опустился на стул. Ирод молчал, но не уходил.
— Вот вы все недовольны мной за разные непорядки, — начал он каким-то фальшивым голосом, — и точно, я виноват, потому действительно непорядки. А только возможно ли за всем углядеть? Дача большая, сторожей мало, как тут быть? Хоть разорвись, ничего не поделаешь.
— Знаю, знаю…
— Опять же, изволите говорить, сторожа мошенничают… Я не скрываю, действительно не без греха, но как быть?.. Жалованье маленькое, восемь рублей с лошадью, тут рука не подымется взыскивать с человека по закону.
— Да, да…
— А сколько напраслины терпишь, сколько разговоров!.. Боже мой!..
Псалтырин страдальчески сморщился и тоскливо глядел в черную темноту ночи. Ему не нравилась необычная болтливость Ирода, и резали ухо фальшивые интонации его речей. Голубев постоял еще минуты две, поклонился и вышел. Псалтырин, съежившись, бледный, худой, усталый, казался таким жалким, больным, беспомощным существом. Долго сидел он, погруженный в пучину мелочных и вздорных мыслей, наконец, сказал:
— Ну ладно. Не все ли равно? Наплевать!
И вдруг почувствовал облегчение, обрадовался, что теперь он на свободе и может ехать домой. "Завтра же утром на лошадей и к вечеру дома", — думал он, и перед ним промелькнули на мгновение широкие, правильные улицы большого города, светлая, уютная столовая, жена, дети.
V
Псалтырин не уехал, однако, ни на другой, ни на следующий день. Ему не хотелось двинуться с места. Его грызла тоска, та безотчетная тоска, которая по временам давила его, как кошмар, и которую он всегда пытался потопить в вине. Он мало спал, почти не прикасался к пище, предаваясь мрачному отчаянию, и не пускал к себе никого. Присутствие людей его раздражало и малейшее противоречие приводило в ярость. Под влиянием почти физического ощущения страшной пустоты все казалось ему отвратительною бессмыслицей. Тщетно перебирал он в уме одно за другим, что могло бы возбудить в нем теплое чувство, на чем с отрадой могла бы остановиться его измученная мысль, — все представлялось холодным, пустым, бессмысленным, безотрадным, как могила, а в голове, помимо его воли, возникали скверные мысли, только усиливавшие хандру. Он пытался вспомнить свою молодость, свое детство, но воспоминания не доставляли ему ни отрады, ни утешения. Он просто как-то представить себе не мог, что он был когда-то молод, весел, остроумен, смел и жизнерадостен, исполнен благих намерений и блестящих надежд впереди. Надежды, относившиеся к благоденствию человеческого рода вообще и местного населения в частности, казались ему теперь возмутительным лицемерием и самообманом, скрывавшими самое жалкое тщеславие. Надежды не сбылись, но не потому, что население оказалось не столько облагодетельствованным, сколько обездоленным, а потому, что сама иллюзия разрушилась и распалась на свои составные части, блиставший светоч оказался простою гнилушкой, прошла молодость, и с нею все потухло, помертвело, и впереди один мрак и пустота. Если бы теперь удалось ему, даже без всяких усилий, одним своим словом облагодетельствовать все население, десятки тысяч людей, чтобы не было голодных, озлобленных, темных, обиженных и несчастных людей, — он чувствовал, что это не доставило бы ему никакого удовольствия. Что они ему? Они будут сыты, довольны, — чем ему от того будет легче? Разве рассеется от того безотрадная пустота и эта гнетущая душу тоска? Да и зачем им быть сытыми? Разве не все равно, сыты они или голодны? Разве не все равно, честные люди населяют землю или подлецы?