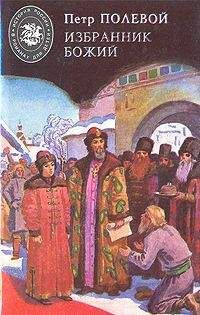«Что это он читает? Зачем он издевается надо мною? Зачем мучает?» — зашевелилось в душе у инокини Марфы.
— Слышала, чай? — нетерпеливо спросил пристав, удивленный молчанием несчастной и недоумением, которое выразилось на ее лице.
Но тот, что читал указ государев, по-видимому, понял тягостное внутреннее состояние инокини Марфы, он стал неторопливо и спокойно истолковывать ей прочтенное. Когда он объяснил, что ее приказано везти на Белоозеро и разрешено ей жить с детьми, она вдруг страшно вскрикнула и, как сноп, повалилась на землю.
— Ну-у! Наделал дела, растолковал! — воскликнул пристав и бросился приводить несчастную в чувство.
Когда же она наконец очнулась и пришла в себя, тогда стала Христом Богом молить, чтобы ей еще раз был прочитан указ государев, и посланец его прочел и добавил даже, что везти ее приказано из Толвуя немедленно и чтобы она была готова в путь назавтра спозаранок.
И вот в тот день вечером, после того как окончены были ее немудреные сборы в дорогу и весь ее бедный скарб был связан в два небольших узла, она в первый раз после поселения своего в Толвуе молилась сознательно, горячо, молилась, влагая всю душу в слова молитвы, и когда дошла до молитвы «Утешителю, Душе Истинный», то почувствовала какую-то необычайную сладость в душе и потом на щеках своих что-то жгучее, горячее… И эти первые слезы после нескончаемо долгого оцепенения сняли камень с души ее: она проплакала всю ночь, и она была одною из счастливейших в ее жизни.
Лето шло к концу. «Илья» был на дворе. С Белоозера начинали подувать резкие и холодные ветры, а утром и вечером все видимое из Мурьинского погоста пространство озера заволакивалось густыми туманами. Княгиня Марфа Никитична уже не выпускала Мишеньку и Танюшеньку на берег иначе как после полудня, пока еще хоть немного пригревало солнышко, да и то нарядив детей в теплые кафтанчики, которые она выхитрила и выкроила им из своей старой камчатой телогрейки, а сестрица Настасья Никитична с Ульяной Семеновной сшили деткам.
Всех мурьинских опальных немало удивляло одно недавно проявившееся условие их одинокой и горемычной жизни в далекой ссылке: их пристав, человек придирчивый и мелочный в исполнении своих обязанностей, как-то вдруг изменился к лучшему в своих отношениях к Романовым и Черкасским. Бывало, прежде он пребывал безотлучно в Мурье, следил за каждым шагом князя и княгини, ворчал даже на выходы их в церковь, урезывал отпускаемые на содержание им запасы и вступал в препирательство из-за каждого пустяка. Но после одной недавней поездки в Белоозерскую обитель вдруг почему-то смирился и смягчился в своих отношениях к ссыльным, стал реже являться к ним и избегал с ними неприятных столкновений. Сверх того, и отлучаться из Мурьи он стал чаще прежнего и в отлучках оставался дней по пяти и даже по неделе.
— Что за притча такая? — говаривала не раз мужу княгиня Марфа Никитична. — Пристав наш совсем к нам иной стал! Уж не пришел ли ему какой указ через обитель? А то игумен его тамошний не пристыдил ли?
— Да, да! — соглашался с женой князь. — Совсем иной… И точно будто даже нас сторониться стал. А прежде ведь как, бывало, наскакивал, за частокол носу высунуть не давал…
— Ну, пока что… А и за это благодарение Богу, — говаривала обыкновенно княгиня.
И князь пользовался своей свободой и каждый день перед обедом выходил на бережок, садился на свой излюбленный бугор и, вперив взор вдаль, глядя туда, где над линией водного пространства чуть-чуть чернела узкая полоска берега, уносился мыслями к родной Москве, раскинутой по своим живописным холмам, к ее златоглавым храмам и островерхим башням, к ее движению и шуму, над которым, господствуя, разносится вширь и вдоль чудный звон ее бесчисленных колоколов. И куда как горько становилось у него на душе, когда от этих своих мечтаний, от воспоминаний о былом житье-бытье, он вынужден был переходить к окружавшей его жалкой бедной действительности. Внизу о плоский и песчаный берег уныло и гулко плескалось серое и холодное озеро, солнце, тускло светившее из-за серых облаков, не оживляло его волн ни блеском, ни красками, невдалеке угрюмые рыбаки тянули сети, мерно ударяя по воде шестами, чтобы загнать рыбу в мотню невода… Все пусто, все серо, все грустно!
Так же точно сидел князь Борис на своем излюбленном бугре и накануне Ильина дня и думал по-прежнему свои невеселые думы на тему о суете и тщете всего мирского, когда к нему подошел отец Степан и после разных предварительных подходов и толков о погоде и об улове рыбы на озере вдруг перешел к предмету разговора, который, очевидно, очень его и занимал, и тревожил:
— Вот тут позавчерась странничек один мимо проходил, в Глухоозерскую пустынь пробирался… От нашего погоста до нее еще верст с полсотни по болотам да по островинам тропочка пролегает…
Старик поп приостановился, откашлялся, оглянулся по сторонам и, присаживаясь к князю на бугор, проговорил:
— Так вот он… этот самый странничек-то предиковинное нечто сказывал…
— Что же бы такое? — спросил князь. — Эти странники из конца в конец земли ходят, должны многое и видеть, и слышать…
— Да уж такое предиковинное, что даже и в ум не вмещается… Мы, конечно, люди темные, а вот ты человек бывалый и книжный, тебе виднее…
— Да что виднее-то? Что он тебе сказывал? Старик наклонился к князю и почти шепотом проговорил:
— Сказывал… будто антихрист в Литве за рубежом народился…
Князь Борис посмотрел в недоумении на отца Степана.
— Да ведь ты же по Писанию должен знать, что это перед кончиной мира будет?
— Ну, вот он, странничек-то, говорит, будто уж и об этом знаменья разные объявились…
— Кабы знаменья, так повсюду на земле были бы видимы, — попытался возразить князь Борис.
— Оно точно, что могли бы быть видимы, — таинственно продолжал поп-старик, опять понижая голос, — да, вишь ты, царь и бояре о знаменьях никому не приказали сказывать…
— Ну, это что-то на ложь похоже, отец Степан.
— Нет, погоди так говорить, послушай, что он дальше-то сказывал…
Попу, видимо, не терпелось, хотелось поскорее всю душу выложить перед князем Борисом:
— Сказывал, будто антихрист этот самый в образе Дмитрия-царевича народился…
— Какого Дмитрия-царевича?
— А углицкого… Что в Угличе убит злодеями…
— Да как же так? Тут убит, а там опять народился? — сказал князь.
— А вот поди ж ты! Враг-то силен… И народился, и грамоту царю Борису прислал. Пусти, говорит, меня доброю волей на прародительский престол… А не пустишь доброю волею…
— Дядя, а дядя! — раздались с берега звонкие детские голоса. — Глянь-ко, глянь, какое суденко на озере!
Князь глянул по указанию деток и точно увидел вдали, верстах в двух от берега, какое-то суденко, которое резво бежало под парусом, подгоняемое по волнам свежим ветерком.
— Стружок бежит нездешний, — сказал отец Степан, приглядываясь попристальнее. — Такие вот по Шексне точно что ходят.
Между тем детки подбежали к князю с расспросами.
— Это что же белое, дядя? — спрашивала Таню-ша. — Точно крыло у птицы?
— Отчего оно идет так скоро? — любопытствовал и Миша.
Князь Борис постарался удовлетворить любопытству племянников, а между тем суденко уже обратило на себя внимание рыбаков и еще кое-кого в поселке.
Из двух изб посмотреть на диковинное суденко вышли и бабы, и дети.
— Не здешнее судно, шехонское, — толковали между собою рыбаки. — А нос сюда держит.
Появление такого судна в мурьинском плесе озера, по которому сновали только челны местных рыбаков, было, конечно, явлением чрезвычайной важности. Немудрено, что и князь поднялся с места и направился к дому, чтобы оповестить жену-княгиню и своячениц. И пристав, до которого уже весть о судне успела дойти, вышел из своей избы и степенно стал спускаться на берег.
«Нет ли тут чего такого… касающего? Вестей каких не везут ли?» — думал он, собираясь уже принять кое-какие меры на случай.
Тем временем струг подошел уже и саженях в пятидесяти от берега стал спускать парус. На нем нетрудно было различить даже лица тех пяти человек, которые на струге находились. Вскоре со струга закричали рыбакам:
— Давайте челны! Нам за мелководьем к берегу не причалить!..
— Подайте сначала один челн, — распорядился пристав, — а там видно будет.
«И что за люди? И чего им здесь надо?» — думал он не без тревоги, выжидая, когда незваные гости высадятся на берег.
Но все опасения его рассеялись, когда к берегу причалил челн, а из него вышел его старый знакомец, вологодский подьячий Софрон Шабров и, облобызавшись с ним, на вопрос: «Откуда Бог несет?» — ответил:
— Из Толвуя, с боярыней Романовой плыву и тебе о твоих боярах указ везу.
— Что? Что такое, братец? Говори скорее!