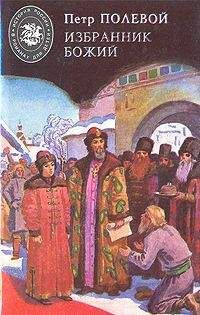Переступив порог избы и перекрестившись на иконы, дьяк увидел перед собою ссыльного инока, стоявшего у окна с толстой исписанной книгой в руках. Дьяк отвесил ему низкий поклон и невольно вперил в него изумленный взор…
Перед ним стоял высокий мужчина, лет под шестьдесят, сильно поседевший и исхудавший за последние годы тяжкой ссылки, но все еще прекрасный собою, осанистый и величавый. Большой ум светился в его темных, живых глазах, которые по временам загорались ярким пламенем и приобретали дивную, чарующую, подавляющую силу.
Густые, серебрившиеся сединою волосы волнистыми прядями спадали ему на плечи из-под простой черной скуфейки, а окладистая борода спускалась почти до половины груди на потертую и поношенную черную рясу…
Но могучая, прекрасная фигура Филарета производила в общем такое сильное впечатление, что нельзя было под этою убогой одеждой, среди этой убогой кельи, не угадать большого боярина, человека властного и гордого, привыкшего повелевать и внушать к себе уважение. Ответя спокойным кивком головы на поклон дьяка, Филарет, вероятно угадавший в нем посланца издалека, отложил книгу на аналой и устремил на дьяка потливый, вопрошающий взор.
— К твоей милости с указом государевым, — заговорил дьяк совсем не тем тоном, каким он говорил с игуменом Ионой.
— Читай, готов слушать.
Дьяк развернул столбец и стал читать указ великого государя Дмитрия Ивановича о том, что он, радея о благе всех своих родичей, повелеть соизволил всех бояр Романовых, а в том числе прежде всех Федора Никитича, в иночестве Филарета, из ссылки вызвать в Москву, возвратить им сан боярский и все отнятые у них Годуновым поместья и вотчины. Филарет слушал чтение дьяка с сосредоточенным вниманием, ничем не выказывая волновавшего его чувства. При имени «великого государя Дмитрия Ивановича» густые брови его сдвинулись на мгновение и в глазах мелькнуло что-то странное, не то удивление, не то презрение, но он не перебил дьяка ни одним вопросом, не справился об участи Годуновых, как игумен Иона… Даже не высказал радости ввиду освобождения от ссылки и заточения.
Дьяк кончил чтение и с поклоном подал указ Филарету, а он указ принял и сказал только:
— Благодарю Бога и великого государя за милость ко мне.
Дьяк помялся на месте и решился задать со своей стороны вопрос:
— Когда тебе угодно будет ехать? Мне приказано просить тебя пожаловать в Москву без всякого мотчанья[1] и не мешкая нигде в пути.
— Отдохни с дороги, — благосклонно ответил Филарет, — а я к пути всегда готов.
И опять ни в голосе его, ни в выражении лица не было ни тени волнения, радости или тревоги… Но зато и на игумена Иону, и на пристава Воейкова смотреть было жалко, так они вдруг опешили, принизились и растерялись. Когда дьяк, отвесив Филарету поклон, направился к дверям вместе с игуменом, пристав не вытерпел, вернулся из сеней в келью и стал отбивать перед Филаретом поклон за поклоном, приговаривая:
— Милостивец, не погуби!.. Если чем согрубил, не погуби, не взыщи на мне, окаянном!
— Взыскивать с тебя мне нечего… Ты исполнял волю пославших тебя, — спокойно и твердо сказал Филарет. — Иди с миром.
Пристав не заставил себе повторять это указание, инок Филарет желал остаться наедине с самим собою; кланяясь, он попятился к двери и скользнул за нее ужом.
Но когда дверь за ним закрылась и Филарет остался один в своей келье, он поддался вполне тому волнению, которое овладело им с первых слов выслушанного им указа и подавление которого стоило ему невероятных усилий воли. Он быстро подошел к окну, опустился на лавку, развернул царский указ и стал жадно пробегать его глазами.
«Великий государь Дмитрий Иванович! — шептал он про себя с улыбкой презрения. — Обманщик наглый… Ставленник польский и казацкий… И на престоле попущением Божьим… И где слава, где мощь всесильного лукавством царя Бориса?.. Темны и неизведаны пути Господни…»
И не льстили ему, не привлекали его те милостивые речи, с которыми обращался к нему новый «великий государь», дерзко и самовольно называвший его своим родичем, суливший все блага жизни… Ему легче было вспомнить обо всех ужасах перенесенной им опалы, разорения и ссылке, нежели о тех почестях, милостях и богатствах, которые ему предстояло получить из рук самозваного царя Московского, каким-то невероятным чудом вознесенного на высоту престола.
— Но как же быть? Что делать? Как решиться идти на обман и об руку с обманщиком? А если не идти, если презреть его…
Мысль о жене, о детях, о свидании с ними вдруг властно вторглась в эти рассуждения и помыслы и вызвала слезы на глазах подневольного отшельника.
— Детушки, детушки милые! — воскликнул он почти громко и не мог сдержать рыдания…
Рыдая, опустился он на колени перед иконою Спаса, висевшей в углу, и стал молиться, и плакать, и изливать горячую исповедь души перед Богом, души, давно наболевшей от всех бедствий и зол, какие на него так обильно пролились за последние годы, на него, ни в чем не повинного, и так страшно, так беспощадно испытуемого судьбою! И вот теперь, вслед за этим горем и бедствием, надвинулась на него новая волна, против которой еще труднее будет устоять, будущее манит его счастьем, свиданием с родными и близкими, манит мирскими благами, от которых он успел отвыкнуть, которые научился презирать… Но для того, чтобы достигнуть этого счастья и этих благ, надо было нарушить мир души своей, порвать с своею совестью, поклониться кумиру, который должно бы повергнуть в прах.
— Что делать, что думать мне? Куда стопы мои направить?! — скорбно взывал он в молитве своей, и луч света, озаривший душу его после долгого и восторженного умиления перед Всеблагим указал ему наконец выход из этой тьмы противоречий, лжи и обмана…. — Кто знает пути Господни? Кто дерзнет похвалиться, что они ему ясны и видимы? Мирские блага меня теперь не соблазнят, и власть не привлечет меня, и суета не ослепит своим коварным блеском!.. Нет больше во мне боярина Романова: он обратился в инока смиренного, и это смирение должно теперь спасти меня от соблазна… Эта ряса, которую надел я против воли, которую я ненавидел долго, как тяжкие оковы, с которою потом я свыкся наконец и примирился… Это ряса, которую нельзя стряхнуть с себя и сбросить, как сбрасываем мы одежды мирские, она теперь послужит мне бронею против зол и соблазна, она мне не дозволит занять места на пиршестве иедавелином… И если даже я только детей своих спасу от уз обмана и лжи, укрою от зла, разве этого мало? Разве не стоит для этого идти туда, где зло водворилось, и зло и обман сносить до той поры, пока Господь не укажет ему предела, не потребит его гневом Своим?..
И он опять стал плакать, и молиться, и просить у Бога сил и помощи в предстоящей ему борьбе, и молился долго… День уж вечерел, когда он поднялся с молитвы успокоенный, примиренный со своею совестью и готовый вполне сознательно сказать себе:
«Да будет во всем Его святая воля!»
Осень 1608 года удивительно теплая, тихая, сухая. Сентябрь уж шел к концу, а лес еще стоял в полном уборе и блистал густою ярко-золотистою, то огненно-красною, то багряною листвой. И дни стояли ясные, не жаркие, при той удивительной прозрачности воздуха и той поражающей ясности неба, которые свойственны только северной осени.
И как бы в противоположность этой тихой осени, богоспасаемый город Ростов — «старый и великий», как он некогда писался в грамотах, величаясь перед новыми городами Владимиро-Суздальского края, всегда спокойный, сонный и неподвижный, словно замерший среди своих старинных церквей и башен, в эту осень сам на себя не походил… На улицах заметно было необычайное оживление и движение, на перекрестках, на торгу, на папертях церквей — везде граждане ростовские собирались кучками, толковали о чем-то, совещались, спорили, что-то весьма тревожно и озабоченно обсуждали. И в приказной избе тоже кипела необычная работа: писцы под началом дьяка усердно скрипели перьями с утра до ночи, а дьяк по многу раз в день хаживал с бумагами к воеводе Третьяку Сеитову и сидел с ним, запершись, по часу и более. И сам Третьяк Сеитов был тоже целый день в суете и впопыхах: то совещался с митрополитом ростовским Филаретом Никитичем, то с кузнецами пересматривал городскую оружейную казну, отдавая спешные приказания относительно починки и обновления доспехов и оружейного запаса, то обучал городовых стрельцов ратному строю и делу. Одним словом, на всем Ростове и на всех жителях его лежал отпечаток какой-то тревоги, беспокойства, ожидания каких-то наступающих бед и напастей.
Это тягостное ожидание наполняло умы всех граждан от старших и до меньших людей, и потому неудивительно, что главным предметом всех частных бесед, где бы они в это время ни происходили, были те же ожидания, те же страхи и опасения, грозившие бедою нежданною и неминучею.