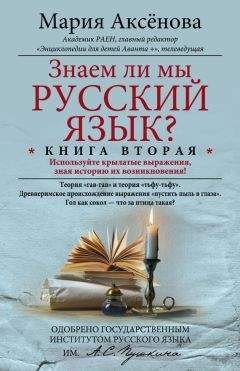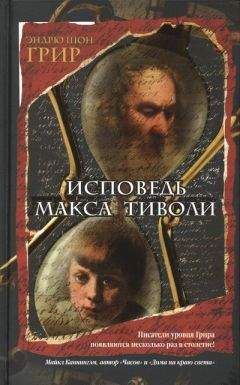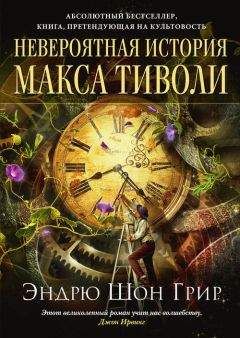на ноги, постельный режим и горячие полотенца, и я делала все это неукоснительно, а кроме этого, единственным нашим утешением были церковные службы, где плачущие матери держали в руках детские фотокарточки. Это не было временем свежести и свободы. Это было время страха, во многом похожее на войну. Чудо, что мы не носились по улицам, вопя от ужаса и поджигая соседские дома.
Вместо этого мы прятали свои страхи. Как мама прятала локон волос ее умершего брата у горловины воскресного платья с высоким воротом, в специально пришитом кармашке. Нельзя каждый день горевать и ужасаться, тебе этого не позволят, тебе нальют чаю и посоветуют жить дальше, печь пироги и красить стены. Едва ли за это можно винить – в конце концов, мы давно знаем, что если на троне, как безумный король, воссядет горе, то мир рухнет, а города заполонят дикие звери и ползучие лианы. Так что надо позволить себя уболтать. Пеките пироги, красьте стены и улыбайтесь, покупайте новый холодильник, словно у вас теперь есть планы на будущее. И тайно – ранним утром – пришивайте кармашек к своей коже. В выемке у горла. Чтобы каждый раз, когда вы улыбаетесь, киваете, сидите на родительском собрании или наклоняетесь за упавшей ложкой, вам становилось бы больно и вы понимали бы, что не «живете дальше». И даже не собираетесь.
«Жить в трагическое время – все равно что жить в стране трагедии», – писал поэт.
Но я должна признаться, что любила наш дом. В конце концов, я сама его выбрала. Наперекор теткам я заставила Холланда забрать себе тот старый дом в Сансете, и поначалу он был просто воплощенной мечтой. Дом с двориком, комната, которую Сыночку не приходилось ни с кем делить, ковры, складные ставни и даже щель за зеркалом в ванной, куда Холланд прятал бритвенные лезвия. Просто чудо: дом, который все заранее предусмотрел. Тогда, в юности, я ни за что бы не поверила, что все настоящие события моей жизни произойдут в том заплетенном лозами доме, – так установщик телефонов не может сказать молодоженам, что из этого блестящего аппарата к ним придут и самые счастливые, и самые печальные новости. Даже сейчас трудно представить, что миленькая пастушка из черного дерева, подаренная нам вскоре после свадьбы тетушками Холланда и стоявшая на книжной полке, наблюдала своими нарисованными глазами за каждым моим жизненным решением. Как и бамбуковый кофейный столик. И «разбитый горшок», изготовленный Сыночком из стакана, изоленты и шеллака. Валянная из шерсти кошка, поломанные каминные часы. Они наблюдали за мной все шесть месяцев той истории, и в час моего суда их, конечно, призовут в свидетели.
А о том, что тетка Холланда сказала мне тогда за чаем с поповерами, я давно решила забыть. Все мои мысли занимали замужество, и новый дом, и уход за ребенком. Было не до воспоминания о старухе, крикнувшей сдавленным голосом:
– Не делай этого! Не выходи за него!
* * *
Шел 1953 год. Была суббота.
Миновали четыре года счастливого брака, а тетушки никуда не делись из нашей жизни. Со временем они стали дороднее, а головы с острыми подбородками почему-то казались еще больше. Словно две кэрролловские Герцогини, они шуршали своими шляпами, рассказывая мне что-то, сидя за кухонным столом. Под ним, укрытый яблочно-красной клеенкой, лежал мой мальчик.
– Перли, мы же забыли рассказать тебе про убийство! – сказала Элис.
– Ужасное убийство! – подхватила Беатрис, которая в это время надевала шляпу, зажав в руке булавку, как гарпунщик.
– Да, – сказала ее сестра.
– Ты не слыхала? – взволнованно спросила Беатрис. – На севере?
Я покачала головой и взяла в руки газету, держа наготове ножницы. Солнце светило сквозь кухонное окно, захватанное сынишкиными пальцами. Было два часа дня, в моих ушах все еще стоял звук велосипедного звонка.
– Перли, это было убийство, – попыталась вклиниться Элис.
– Женщина пыталась добиться развода…
– Это было в Санта-Розе…
Беатрис воздела руки к небу, булавка сверкнула, как стрекоза, замерла на мгновение и ринулась вниз, вторя ее словам.
– Такое бывает сплошь и рядом. Она хотела развестись с неверным мужем. Это, как ты знаешь, непросто. И вот она вместе с адвокатом по этим делам поехала в домик, где ее муж прятался со своей… с этой… ну ты знаешь…
– Со своей интрижкой на стороне, – заполнила пропуск сестра.
– С любовницей, Перли, с любовницей, – провозгласила Беатрис, не дав себя превзойти.
Беатрис улыбнулась, глядя под стол, где прятался мой сын. Он сидел там уже час – без игрушек, без собаки (собака лежала у моих ног), и для меня это было невероятной загадкой. Мое дитя было совершенно счастливо, сидя под скатертью. Помню, я подумала: он вылезет, когда остановится посудомоечная машина. Это было излишество – подарок тетушек. Они болтали, а я стояла и слушала, как рядом крутится и бормочет эта машинка, словно во сне, от которого мы вскоре очнемся.
Я спросила, была ли та женщина чернокожей.
– Какой? Нет, жена была белая, и любовница тоже. Не знаю, с чего ты решила…
– Во всяком случае, – продолжила старшая сестра, переходя к самому интересному. Она всплеснула руками и указала на окно, выходящее на улицу, словно все произошло прямо здесь, в этом самом доме. – Во всяком случае, она, и сыщик, и фотограф, все они пробрались в тот домик, чтобы все сфотографировать. Для развода ей, ну ты знаешь, требовались доказательства… неверности… Для развода. Нужно было фото мужа и его…
– И они вломились! – крикнула Элис. – И камера со вспышкой! И что бы ты подумала…
– А у него был пистолет. Он решил, что это грабители, – теперь они говорили одновременно.
– Конечно. Конечно, решил!