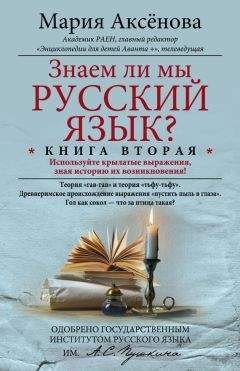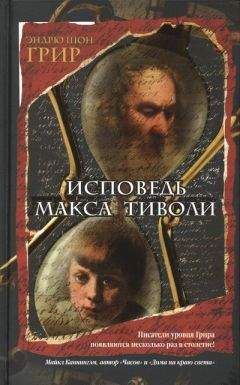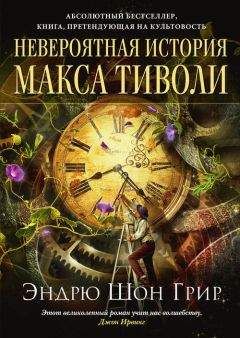– Кто же еще вламывается в дом?
– А кто еще?
– И тогда, – Беатрис говорила, и обе они надевали свои соломенные шляпы, – и тогда он застрелил свою жену насмерть. – Она посмотрела мне в глаза. – Прямо насмерть!
Булавки вонзились в шляпы.
– Такое бывает сплошь и рядом! – сказала Элис.
Пока они рассказывали свою леденящую кровь историю, я сидела в своем платье на пуговицах под длинным окном с оборкой из вьющихся лоз. На этом месте я каждый день сидела и цензурировала газету для мужа. Я должна была закончить до того, как он придет со своей внеурочной работы, чтобы оставить ему газету с одними хорошими новостями. Это была одна из многих вещей, которыми я гордилась, которые делала ради здоровья Холланда, ради его сердца. Легко смеяться над тетушками, но в тот день много лет назад, за ланчем, когда младшая так разволновалась – «Не выходи за него!», – они явно пытались мне помочь.
Однако по своему упрямству я решила игнорировать бедняжек и делать все от меня зависящее для благополучия Холланда. У этих женщин никогда не было мужей – откуда им знать, что́ он для меня значит.
И вот мое воображение, этот беспечный художник, извлекло из ее предостерегающих слов – «дурная кровь, порченое сердце» – образ смещенного органа. Я уверила себя, что он болен. Я представляла себе экран в затемненной аудитории мединститута: бедный Холланд, родившийся с пороком, с сердцем, висящим справа, как вишенка. Я представляла Холланда в разрезе, с внутренностями, подогнанными друг к другу, как пазл, и лектора, постукивающего по его грудной клетке: «Ген правосторонности встречается в одном случае на десять тысяч». Прекрасный образ, вокруг которого можно построить жизнь. Я гордилась своим необычайным мужем и необычайными супружескими обязанностями: следить, чтобы он был в безопасности, а еще лучше, чтобы не подозревал об опасности. Здоровьем можно наслаждаться только в блаженном неведении о риске его потерять. В этом оно похоже на молодость.
К обязанностям я относилась серьезно. С молчаливого одобрения Холланда я создала тщательно продуманную систему защиты его сердца. Перво-наперво я превратила дом в храм тишины. Телефон издавал не звонок, а своеобразное мурлыканье, а дверной жужжал (вы вскоре это услышите), и я купила будильник, который по утрам начинал эротично вибрировать; я даже ухитрилась найти собаку, которая не лает. Прочла в газете о том, что вывели такую породу, и постаралась найти заводчика. Молчаливый пестрый Лайл сидел на полу кухни у моих ног, закрыв глаза от удовольствия просто быть со мной рядом. Запрещать шуметь Сыночку не было необходимости – он родился тихим, словно был лекарством для мужниного сердца. Следить мне нужно было только за собой, и я никогда не повышала голоса. Я подспудно знала, что муж будет потрясен и что это пойдет вразрез со всем, о чем я клялась, вступая в брак, так что я заглушила в себе все, что нельзя было описать словами «мягкая» и «добрая».
Итак, в ту субботу моей задачей было перехватить газету и прочесть ее до того, как Холланд успеет найти в ней что-нибудь неприятное, шокирующее – то, что сможет разбить его хрупкое смещенное сердце.
– Убить собственную жену… – снова начала старшая.
– Ой, хватит об этом, Беатрис. Не сегодня. Не при мальчике.
Старуха коварно улыбнулась:
– А вот я не уверена, что жена сама не виновата!
– Беатрис!
С улицы донесся звон трамвая, и обе дамы машинально посмотрели на часы.
– Нам пора бежать! – сказала Беатрис. – Мы не сможем дождаться Холланда. Не знаю, зачем ты позволяешь ему подвозить эту Делон. Это не доведет до добра.
При упоминании имени я вновь вспомнила тот велосипедный звонок.
– Мы тебя любим, Перли, – сказала ее сестра, застегивая пояс. – Присматривай за нашим Холландом.
Я попросила Сыночка вылезти и попрощаться, но они зашикали на меня и сказали, что это неважно, все мальчики такие.
– Прощай, дорогуша, – сказали обе и расцеловали меня.
Спустя две минуты и два поцелуя мы остались одни. Спустя еще десять минут дверной звонок зазвенит – или заворкует, скорее заворкует, как печальная голубка, – наш пес Лайл взовьется в воздух, я открою дверь, и за ней будет стоять тот незнакомец:
– Здравствуйте, мэм. Надеюсь, что вы мне поможете.
Слова самые обычные, но они всё изменят.
Но на краткий миг мир был спокоен и тих. От сына, сидящего под столом, я видела только ботинки, такие неподвижные, словно они были медными. Уверена, что там, внизу, было очень красиво. Пол, покрытый темно-коричневым мармолеумом, сиял, как замерзшая грязь, и потрескался в тех местах, где стояла мебель, и уже начал протираться возле кухонной раковины, где я простаивала бессчетные часы, пока не привезли посудомоечную машину (чудище), а сын смотрел на мои ноги в чулках со швом. Тогда я носила чулки с золотыми ромбиками на лодыжке и буквой П (означало Перли), и это все, что он видел, – только золотые ромбики, – что стало одним из немногих его детских воспоминаний обо мне.
Детские ботинки, левый больше правого. Подарок от его «обувного друга» из Монтаны. В «Марч оф даймс» очень постарались и нашли мальчика, больного полиомиелитом, чьи неодинаковые ноги были зеркальным отражением ног Сыночка. Каждый раз, покупая обувь, мы брали две пары, оставляли себе меньший левый и больший правый, а то, что осталось, отсылали в Монтану маленькому Джону Гарфилду. Мы всегда прилагали письмо, и мама Джона всегда на него отвечала, посылая ботинки, купленные ею для своего сына. Договоренность была четкой. Джон и Сыночек пробыли «обувными друзьями» до подросткового возраста, пока полностью не выздоровели. Доктора в призывной медкомиссии едва могли определить, что у них когда-то был паралич, и, как ни удивительно, признали обоих годными к службе. Война меняет