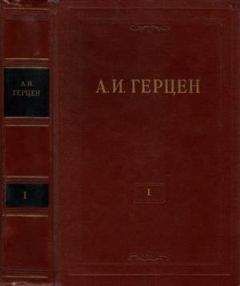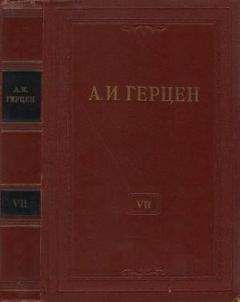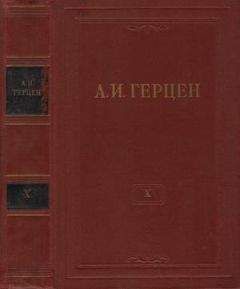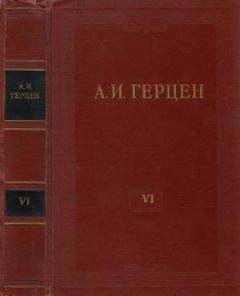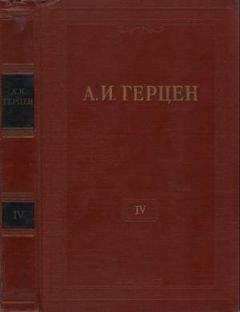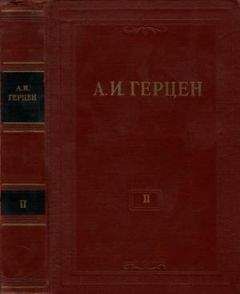Фокс.
Ты понимаешь ли ответственность,
Какую на себя возьмет строитель
Евангельской общины в новом мире?
В Америку селились до тебя
Анабаптисты, пуритане;
Однако подвиг что-то их не виден,
Их цель была бежать от притеснений.
Будь осторожен,
Изведай чистоту своей души:
Нехристианский Соломонов храм
Условьем первым зодчему поставил
И всем работающим – чистоту…
Не та ли же развратная Европа
Тебя вскормила на груди своей,
Не принесешь ли ты с собой
Начало заразительных болезней?
Ты вспомни, что в плену рожденные
Страны обетованной не видали;
Они, сам Моисей, нечисты были,
Им рабство запятнало душу,
И Иегова их схоронил в пустыне.
Найдется ль твердость у тебя, мой сын,
С смирением, с невинностью души
Святую мысль твою исполнить?
Не погуби себя – и ты Христов!
А страшные тут будут искушенья:
Ты поведешь в далекую страну
Толпу людей несчастных, бедных,
Ты дашь им корабли на море,
Ты дашь им лес и поле на земле,
Ты дашь закон твоей общине юной;
О, горе, если дух твой вознесется,
И ступишь ты на новый материк
Не так, как брат, один из братьев,
А как глава и как создатель храма, –
Глава, себя избравший сам;
И если в сердце есть твоем
Малейшая хоть доля самолюбья,
Она ведь тоже даст росток,
И силен рост дурной травы.
Вильям.
О нет, поверь мне, мой отец,
Не властелином буду я страны,
Которую на равенстве стремлюсь
Евангельском, незыблемом поставить.
Я землю братьям всю отдам, – себе
Возьму клочок, расчищу сам его
И потеряюсь между братий.
Фокс.
Мирская слава загремит тогда;
В других добру дивиться любят люди;
Для них герой великий тот, кто может
Богатством пренебречь и властью.
И эта слава до тебя дойдет,
И позабудешь ты, что славен он
Один, тебя орудием избравший.
Своею красотой прельстился ангел,
Забыл творца и в себялюбье гордом
Он с неба удалился в преисподню;
Но что ужаснее всего – увлек
В свое паденье легион духов,
Его влиянью подчиненных.
Вильям.
О, если так, отец,
Позволь мне путь лишь указать другим,
Дать средства им.
Я мысль свою не смею скрыть, –
Пророческий то голос, откровенье, –
Ее я должен миру сообщить;
Она не мне принадлежит, – сосуд
Я только избранный, горсть грубая
Земли; в нее же сеятель небесный
Зерно своей пшеницы бросил;
Оно должно взойти, зане уж пало
Из рук державных провиденья.
Но я ль им избранный? – вот в чем вопрос.
Назначь, отец, ты искус трудный, строгий, –
То будут сорок дней пустынных мне;
И если выдержу я твердо их,
Тогда благослови меня на путь;
Тогда уверен будешь ты, что Он
Меня призвал на деланье святое,
Что устроенье вертограда Он
Назначил в Новом свете, а не я.
Фокс.
Не сорок дней готовился Спаситель, –
Часть жизни всей; Христос двенадцати
Был лет, когда закон уж толковал,
Но в тридцать лет явился пред народом
С великой властью искупленья миру,
И тут еще осмелился Диавол
В пустыне подойти к нему;
Тем паче мы должны быть осторожны.
Однакож голосом души зачем
Пренебрегать, – согласен в этом я.
Ступай ты проповедать миру свой
Поход крестовый, как пустынник Петр, –
Поход не крови, а любви и братства;
Ступай один, без денег, пеший,
Смирись перед людьми, проси
Кусок насущного ты хлеба,
Терпи отказ, переноси обиды,
Свое ты имя и богатство скрой,
И нищим нищий ты скажи
О новом мире, их зови туда
И слушай, что тебе на это скажут.
Коль дух не возмутится твой
От притеснений и обид,
Коль нищему тебе поверят люди,
Коли пойдут с тобой – веди, мой сын:
Тогда твое призванье подтвердилось.
Вильям (со слезами бросается ему на шею).
Иду, иду, благослови, отец!
Фокс.
О, горько, горько мне с тобой расстаться!..
1839. Владимир.
<Часов в восемь навестил меня…>*
…Часов в восемь навестил меня некогда бывший мой законоучитель – отец Василий; он уже не один раз был у меня, и беседа его всякий раз оставляла в моей душе светлый след. Я обнял почтенного пастыря. Когда он давал мне уроки, я не умел вполне оценить этого человека, с его восторженной, чистой душой. Что-то беспредельно торжественное было в беседе нашей; плавным, величественным maestoso окончилась она: благословение пастыря, объятия друга напутствовали меня, слезы души любящей заключили ее. В эти минуты я был достоин принять высокие впечатления. Возбужденная душа раскрывалась всему святому. Взор мой покоился на двери, в которую вышел священник.
…Дверь снова растворилась. Видали ли вы на образах явление девы Марии в какой-нибудь бедной келье изнеможенному cтарцу-монаху, во всем блеске просветленного образа человеческого, в котором от плоти едва осталось очертание, а дух божественности просвечивает в своей бестелесности? видали ль взор любви и кротости, обращенный на поверженного в прах угодника? и его взор, светящийся восторгом и благоговейным трепетом? Я был тот, которому явилась дева…, молча протянула она мне руку, я быстро схватил ее…
…Не так ли умирает человек? Посланник божий, светлый, улыбающийся, подойдет к страдальцу, протянет руку, и тело мертво, а душа родилась в царство духа и свободы. Как ясно стало в душе моей, когда я держал ее руку; казалось, не о чем было и говорить, а когда стали говорить, говорили так, ничтожные вещи. Разлука укрепила нашу симпатию, дала возможность прийти в себя, в сознание, превратиться в сущность жизни, в самую жизнь. Только тогда пало несколько сильных слов, которые носят в зародыше мир чувствований, мыслей, дел. «Брат, – сказала она, прощаясь, – в дальнем крае помни, что твоя память о ней ей так необходима, как жизнь».
…Мы простились. Время опустило меч свой…
…Я остался с Терентьичем. Ветеран мой часто рассказывал мне о своих походах и жизни за границей. «Там ведь, – говорил он, – не то, что у нас: города так застроены, что никакого пространства нет (уверяю вас, что не выдумываю), и дома все на один лад; если номер дома забыл, то и проищешь дня два». В лингвистике он тоже был силен. Есть о чем поговорить с бывалым человеком, нечего сказать.
…Иногда в праздничные дни Терентьич подгуляет; он от этого ничего не терял, напротив, приобретал сильный запах сивухи, и тут-то мой ветеран был удивительно гениален. Во все праздничные дни Терентьич получал порцию, да не пьет ее, а в склянку, – сами рассудите, стоит ли из-за полустакана рот марать. Набравши пять-шесть порций, он их употреблял в прикуску с черным хлебом. Так принятые пять порций ответствуют 55. После этого déjeuner sans fourchette[173] усач принимался за трубку. Чубук в полвершка, трубка величиной с горшок для гречневой каши, а табак он покупал листьями имбирку, т. е. венгерский, фунт пять копеек, и сам крошил. Вино и табак возбуждали в нем лиризм, и он затягивал свою любимую песню:
Сватался за девушку саратовский купец,
Говорил, житья-бытья двенадцать кораблев,
Думаю, подумаю, не выйду за него…
…Между прочими достоинствами моего воина надобно упомянуть о патенте на ряд крестов и медалей, висевших на его молодецкой груди. Этот патент, не так, как мой на титулярного советника, не на телячьей коже был выпечатан, а на его собственной, прекрупным цицеро сабельных ударов, а знаки препинания были поставлены свинцовыми точками.
* * *
Per me si va nella città dolente[174].
(Надпись по дороге в ад).
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой.
…10 апреля в восемь часов утра явился ко мне дежурный офицер и объявил, что через час я должен отправиться в путь. Он меня застал в сильном раздумье и в сильном волнении, но ни того, ни другого я описать не могу. В душе было что-то торжественное, – правда, грустное, очень грустное, но не отчаянное, напротив, грусть была проникнута сильной верой в будущее. Чувства, колыхавшиеся, как волны морские, в моем сердце, были не по груди человеческой; казалось, они разобьют ее. Я по словам офицера, как по лестнице, начал опускаться на землю и был рад этому, мне становилось тягостно в этом состоянии, так физически неестественно человеку дышать на высокой горе, несмотря на то, что там воздух составлен в 10 раз чище из своих 29 долей жизни и 71 доли смерти, нежели в низменных местах. Вчера вечером я мало и смутно чувствовал, но когда я лег часа в два на постель и потушил свечу, явилась бездна чувств и мыслей. Не знаю, как с другими, а со мною всегда первое впечатление слабее, нежели отчет в этом впечатлении. Погодя немного всякое ощущение является ярче. У меня сердце, как болонский камень; покуда лежит на солнце – не светит, солнце село, ночь пришла – горит камень.