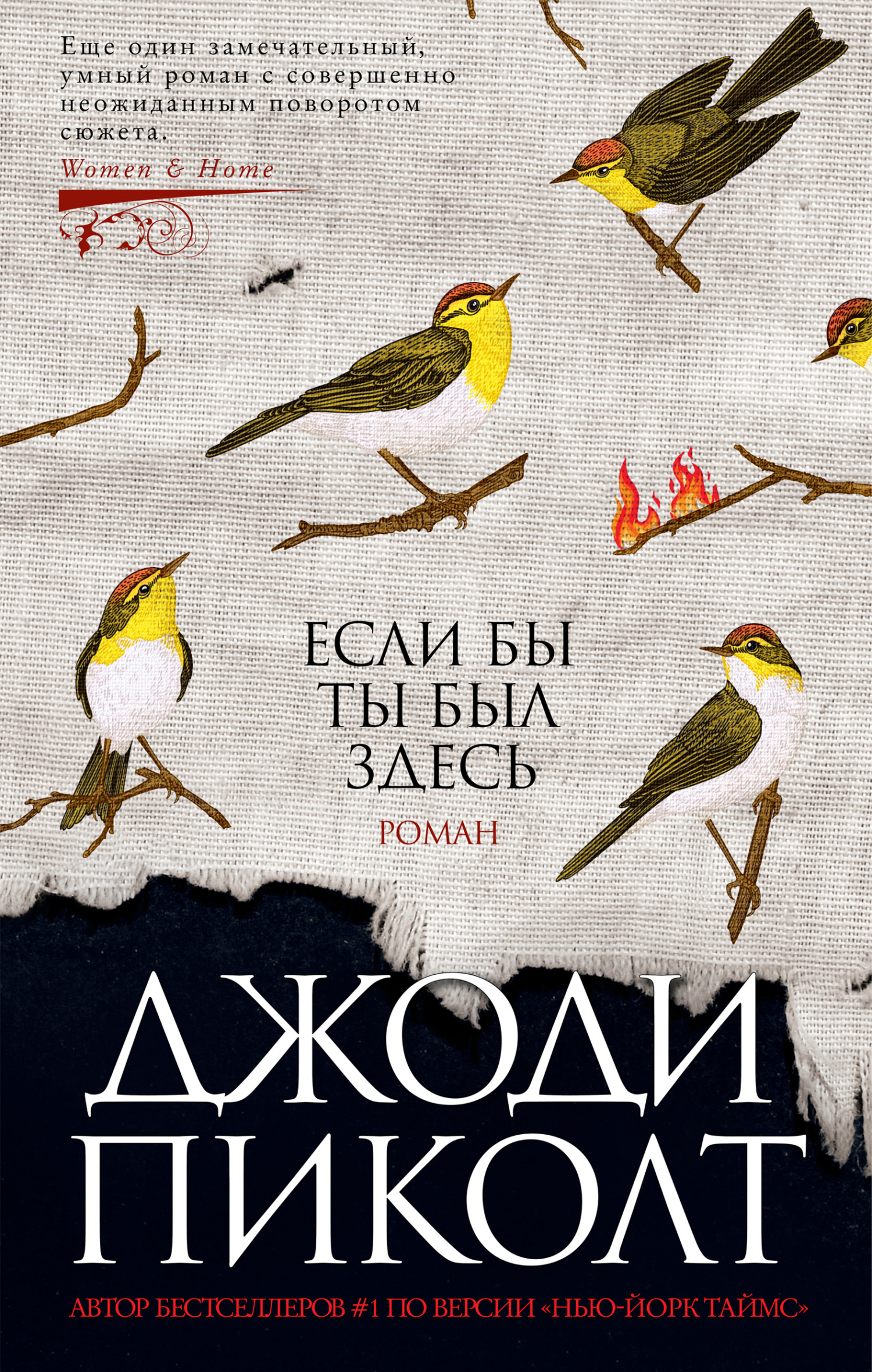нужно делать добрые дела, будто я глухой. Как бы там ни было, а мне это быстро надоело, я сказал, что мне нужно пописать, и смылся. Я пошел домой, взял один из отцовских топоров и пилу и срубил маленькую елочку посреди двора. Когда сосед заметил, что меня нет, я уже поставил ее в гостиной и украсил игрушками, гирляндами, ну, вы сами знаете. — До сих пор помню эти огоньки — красные, синие и желтые, как они мигают на елке, наряженной, будто эскимос на Бали. — Так вот, утром в Рождество родители пришли к соседям, чтобы забрать меня. Выглядели они ужасно, но, когда привели меня домой, под елкой лежали подарки. Я, весь такой радостный, нашел тот, что был с моим именем, а там оказалась маленькая заводная машинка, какая подошла бы трехлетнему малышу, а не мне, и я знал, что они продаются в больничном магазине подарков. Оттуда же были и все остальные вещи, которые мне дарили в том году. Вы только представьте. — Я приставляю окурок к джинсам на бедре. — Они ничего не сказали про елку. Вот каково расти в этой семье.
— Ты считаешь, для Анны все так же?
— Нет. Анна у них на радарах, потому что играет важную роль в их грандиозном плане относительно Кейт.
— А как твои родители решают, когда Анна должна помогать Кейт в медицинском смысле? — спрашивает она.
— Вы говорите так, будто тут есть какой-то процесс. Как будто на самом деле существует выбор.
Джулия поднимает голову:
— А его нет?
Я пропускаю ее вопрос мимо ушей, принимая за риторический, если мне когда-нибудь доводилось такие слышать, и смотрю в окно. На дворе торчит пенек от той елочки. Никто в этой семье не пытается скрывать свои ошибки.
В семь лет у меня родилась идея прокопать ход в Китай. Насколько трудно это будет, если рыть прямой туннель? Я взял в гараже лопату и вырыл яму, достаточно широкую, чтобы пролезть в нее. Каждый вечер на случай дождя я накрывал ее старой пластиковой крышкой от песочницы. Четыре недели я трудился, обдирая о камни руки, так что оставались боевые шрамы, и путаясь ногами в корнях.
Я не рассчитал, что вокруг меня вырастут высокие стены, а нутро планеты начнет жечь подошвы кроссовок. Закапываясь вглубь, я все больше терялся. В туннеле нужно освещать себе путь, а мне всегда плохо это удавалось.
Когда я закричал, отец мигом появился, хотя мне показалось, что я прождал несколько жизней. Он забрался в яму, удивляясь моему упорству в работе и глупости.
— Тебя могло засыпать! — сказал он и вытащил меня наружу.
С этой точки я увидел, что мой туннель не простирался на многие мили. Отец стоял на дне, а яма была ему по грудь.
Темнота, знаете ли, вещь относительная.
Анне хватает десяти минут на переезд в мою комнату на станции. Пока она выкладывает одежду в ящик и размещает расческу рядом с моей на тумбочке, я иду на кухню, где Паули готовит ужин. Все ребята ждут объяснений.
— Некоторое время она побудет со мной здесь, — говорю я. — Нам нужно кое с чем разобраться.
Цезарь поднимает глаза от журнала:
— Она будет ездить с нами?
Об этом я не подумал. Может, так Анна отвлечется, почувствует себя кем-то вроде ученика.
— А что, она могла бы.
Паули оборачивается. Сегодня он готовит фахитос с мясом.
— Все в порядке, кэп?
— Да, Паули, спасибо, что спросил.
— Если кто-нибудь будет ее расстраивать, — говорит Рэд, — ему придется иметь дело с нашей великолепной четверкой.
Остальные кивают, а я думаю: «Интересно, как бы они отреагировали, узнав, что расстраиваем ее мы с Сарой?»
Я ухожу, чтобы ребята закончили приготовления к ужину, и возвращаюсь в свою комнату, где Анна сидит на кровати, скрестив ноги по-турецки.
— Эй! — окликаю ее я, но она не отвечает.
Я не сразу замечаю, что она в наушниках, из которых ей в уши льется черт знает что.
Она видит меня и выключает музыку, стаскивает наушники, и они висят у нее на шее, как удавка.
— Привет!
Я сажусь на край кровати и смотрю на нее:
— Ну, ты как? Хочешь чем-нибудь заняться?
— Например?
— Не знаю, — пожимаю я плечами. — Сыграть в карты?
— В покер?
— Покер, рыба [30]. Что угодно.
Она внимательно смотрит на меня:
— Рыба?
— Хочешь, заплету тебе волосы?
— Пап, ты хорошо себя чувствуешь?
Я чувствовал бы себя лучше, если бы сейчас забегал в обрушающееся здание, а не пытался снять тяжесть с ее души.
— Просто я хочу, чтобы ты знала: здесь ты можешь делать все, что захочешь.
— А можно оставить в ванной коробку с тампонами?
Я сразу краснею, и Анна тоже, как будто это заразно. В пожарной команде только одна женщина, и та работает не на полную ставку, женская уборная расположена на нижнем этаже. И тем не менее.
Волосы завешивают лицо Анны.
— Я не о том… просто я держу их…
— Ты можешь оставить их в ванной, — разрешаю я, а потом авторитетно добавляю: — Если кто-нибудь пожалуется, скажу, что они мои.
— Не думаю, папа, что тебе поверят.
Я обнимаю ее одной рукой:
— Может, сперва я буду что-то делать не так. Никогда не жил в одной комнате с тринадцатилетней девочкой.
— Я тоже нечасто ночую с сорокадвухлетними мужчинами.
— Это хорошо, потому что я убил бы их.
Ее улыбка отпечатывается на моей шее. Может, все будет не так страшно, как я думал. Может, я смогу убедить себя, что этот переезд в конце концов сохранит мою семью, хотя первый шаг подразумевает ее разрушение.
— Папа?
— Хм?..
— Просто чтобы ты знал: никто не играет в рыбу, научившись ходить на горшок.
Она крепче обнимает меня, как делала, когда была маленькой. В этот момент я вспоминаю, как в последний раз нес ее на руках. Мы шли через поле, все впятером, рогоз и ромашки были выше ее головы. Я поднял Анну, и мы вместе пробивались через море травы. Но оба впервые заметили, как низко болтаются ее ноги, она была уже слишком велика, чтобы сидеть у меня на бедре. Очень скоро Анна забрыкалась, я отпустил ее, и она пошла сама.
Золотые рыбки становятся большими для аквариумов, куда их посадили. Бонсаи теснятся в миниатюрных горшках. Я бы все отдал, чтобы Анна оставалась маленькой. Дети перерастают нас намного быстрее, чем мы их.
Кажется знаменательным, что, в то время как одна из дочерей тянет нас в правовой кризис, другая находится в муках