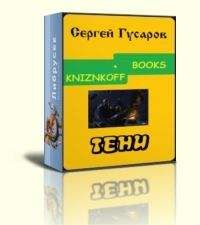Они очень долго, неторопливо пьют прямо из бутылок и почти не разговаривают. Они старые и очень устали и вот отдыхают в тишине - если бы я прежде не видела их при свете, я все равно поняла бы это теперь, хотя плохо вижу их в темноте.
Покончив с пивом, они немножко ожили, стали переговариваться вполголоса, звякнули собираемые вместе бутылки, и вот тогда это и произошло.
Я отодвинулась под свой шалашик, чтоб меня не могли увидеть как-нибудь случайно с тропинки, и ждала, когда они пройдут мимо, а они все не шли, и мне как-то беспокойно от этого стало, я отвела рукой ветку и тогда увидела.
Музыканты с инструментами в руках подходили к памятнику. Я уже почти догадалась, только мне страшно было, что что-нибудь окажется не так и все испортит.
Было тихо на шоссе, автобусы кончили ходить, ветер улегся, тихо горели вдалеке огоньки на мосту, а в небе проходили облака, открывая бездонные озера глубин, полных звезд, и тогда мне хорошо была видна девушка с веночком, и в этой, совсем ночной, совсем безлюдной, тишине у подножия, к ней лицом выстраивались, становились в два ряда на свои места старые музыканты из поселка, на минуту замерли и вдруг заиграли старательно и торжественно, в очень медленном темпе, траурный марш.
Для кого? Для тех, кому был памятник? Для травы и пустого шоссе? Для звезд? Для меня или для самих себя? Для всех нас, наверное.
Со всеми повторениями, трижды они проиграли марш, и так странен был этот звук многих скрипок в не очень твердых и гибких руках, все было странно и так отрадно и горько, как редко бывает в жизни...
Доиграв, они минуту молча постояли, как в строю, опустив смычки, как преклоняют знамена, и, снова устало сгорбившись, пошли, разобрали сложенные на лугу футляры и, один за другим, прошли гуськом мимо меня по извилистой тропинке к мостику через овраг.
...И это все - ноя поездка, ночная музыка на пустынной поляне, - все тоже уже воспоминание, и когда я прохожу через двор, возвращаясь из молочной, никого из старух, "гуляющих" сидя на табуретках с подложенным" подушечками, не интересует моя сетка с единственной бутылкой кефира.
А я прохожу сквозь двор, как через смутный сон, который забываешь, проснувшись поутру. И возвращаюсь поскорей к себе.
Дня через два после приезда я собралась с силами, поехала на переговорную и позвонила, как раз в обеденный перерыв, Сереже на работу так уж у нас условлено, если звонить, то в четверг и в перерыв. Но это не каждый месяц бывает.
По голосу я сразу слышу, что он в комнате не один, что ж, нам часто так не везет, у него ведь нет отдельного кабинета.
- Да, все благополучно, я вернулась, побывала у нашего моря... - я усмехнулась в трубку. - Какое оно оказалось? Серенькое и смирное. Да, я была и там. Собор я городок. Старинный, да... там, где переправа? Ходят по мосту электрички и, знаешь, иногда и старые паровозы тоже...
Нет, я ничего... но все рассказывать по телефону совсем не могу, я лучше напишу... нет, и написать я не сумею ничего, я тебе потом напишу когда-нибудь, а сейчас не могу... Плохое?.. Пора бы знать, что от плохого я уж разучилась реветь... хорошее, но только трудно рассказать.
А как твои? Жена?.. Да, понимаю. И никогда не встанет? Но ей не больно? Не очень?.. Что делать. Так жаль ее. И тебя. Ну, в какой-нибудь четверг поговорим еще, тогда, может, никого в комнате не будет. Ты ничего не говори сейчас, я понимаю. Прощай, милый... Да, мы разговор закончили, спасибо...
А вечером мы с Жанной пьем чай с пастилой, в ее комнате, и ей ужасно хочется задержать меня подольше, но я безжалостно ухожу к себе, устав от одиночества среди людей, без своих... не знаю, как назвать... мыслей? Без того, что возвращается к человеку в тишине и равновесии внутри.
Я хочу не пропустить сегодня закат. По правде говоря, он не так-то часто бывает виден за домами и облаками, за городскими дымами - из моего окошка. Но сегодня виден, и вот я спешу, чтоб одной посидеть у окошка, и все-таки почти опаздываю, неистово раскаленный шар без лучей очень быстро уходит за тот угол дома, куда ему положено садиться весной, я точно знаю это место. Потом он будет садиться все правее, а к осени пойдет уходить влево, и зимой его не станет видно из моего окна вовсе...
Стена далеких домов, замыкающих мой горизонт, становится черной, как фотобумага, и такой же плоской, хотя небо еще светится лимонным нежным светом, и когда в окнах в разных местах стены зажигаются огни, они мне издали кажутся проколотыми в черной бумаге дырочками, сквозь которые виден светлый простор заката.
Вдоль улиц зажигаются фонари, воздух теплый, через мое открытое окно мне слышен шум города, гудение моторов и шорох множества шагов людей, и я, облокотясь о подоконник, смотрю на них сверху и думаю, как невозможно отличить среди них тех, кто в эту минуту считают себя самыми несчастными, уверены, что жизнь - это цепь страданий и горя, от тех счастливых, кто в эту минуту уверен, что жизнь - это сплошная сласть и удовольствие. И не узнаешь, как они поменяются местами! Идут удачливые ловкачи, свысока уверенные, что все кругом либо ловкачи, либо ротозеи и только не надо зевать! Идут дураки, считающие, что мир и люди - глупы. Идут и добрые, и умные настолько, что считают себя не очень умными, корящие себя, что недостаточно добры. И горит свет за занавесками миллиона окон на всех этажах, только проезжим по жизни кажется, что все там очень понятно и все одинаково ровно и неинтересно, раз все пьют чай, и спать укладывают ребят, и смотрят телевизор, и не кричат во сне.
И мое окно такое же - одно из миллиона, и тем, кто смотрит издалека, оно видно, как точка, как квадратик света, где так уютно и благополучно: горит лампа под одним из миллиона розовых и желтых абажуров...
Потом наступила пасмурная погода, никаких закатов не было несколько дней подряд, и я ходила вечерами потоптаться взад-вперед по шумному скверику, где за редкой полоской деревьев все время мелькали автобусы.
Вернувшись домой, я отворила дверь в комнату и, прямо как на притолоку, наткнулась на твердый, горящий возмущением взгляд: Катя сидит в углу дивана и в упор, не двигаясь, смотрит, как я вхожу.
Я спокойно притворяю за собой дверь и говорю: "Здравствуй". Я и вправду спокойна, как-то не чувствую на этот раз ни волнения, ни радости. Мало ли зачем она заглянула.
- Нет, не здравствуй! - неукротимо, ненавистно, еще глубже втискивается спиной в угол, подальше от меня. - Не здравствуй!.. Ведешь себя, как девчонка!.. Где ты была?
- Я давно приехала. А что?
- А я только два часа назад. И вот сижу, жду. Тебе не приходило в голову, что ты... А вдруг ты была мне позарез нужна, а тебя не было? Взяла и укатила! Есть люди, которые только о себе способны думать, а другие для них - это... как куклы или просто соседки... или собачонки, или... Что? Уезжала? Да, я тоже уезжала! Да! А потому и уехала... Только когда увидела, что ты преспокойно села и уехала, тогда и я!.. Как будто это я первая! Это мне нравится: я уехала!.. Называется, пожилая женщина!
- Старая.
- Тем более! Никогда ты не исправишься!
- Наверное, уже нет.
- Ты не отвечаешь на вопрос. Где ты пропадала?
- Не хочется. - Я сажусь к себе на кровать, хорошо бы закрыть глаза и прилечь, но я сижу прямо и говорю тихонько: - Не хочется сейчас об этом... Не хочу. Имею я тоже право не хотеть говорить?
- С соседкой? Имеешь! А со мной?.. Тогда и я имею право!
- Да, имеешь.
- Спасибо за разрешение, а я вот скажу, мне незачем скрывать, как другие. Я ездила в Оренбург. К дяде Вале... Ага, про него тебе интересно?
- Да.
- Ага! Ну так слушай... Что ж, все там обошлось, в общем, благополучно. Он даже не дал мне по морде. Нечего глаза раскрывать. Да, ему бедному, очень хотелось. Я ему все рассказала, ты что, не понимаешь? Рассказала, и по его лицу я увидела, как ему хочется развернуться и дать мне раза...
- Как у Вали с глазами?
- Ничего. Только телевизор ему нельзя смотреть, вредно. Так что он меня тогда не видел. Но слышал, и очень был рад, ему понравилось. Во всяком случае, приятно было слышать мой голос. Он сказал. Вот, стоит про него заговорить, и ты вся светлеешь! А меня тут уж нет? Ты уже отряхнула прах моих ног от своего порога? Или как это делается... Да? Я вижу... Ну что ж, пожалуйста... Он тоже темнеет, когда... То есть он потемнел как черт, когда я ему сказала, что ты меня выгнала.
- Не может быть! - с изумлением вырывается у меня.
- Нет, я правда так и сказала. Мне так нужно было, чтоб он мне посочувствовал. Он, к сожалению, не поверил, и я созналась, что я сама решила, самостоятельно... ну, и мне дали комнату, и... и вот тут он потемнел и размахнулся, мысленно, и влепил мне, то есть руку-то он удержал, она у него и не дрогнула, но все остальное было. Кроме руки. До того, что я спросила: за что ты меня ударил? И он нисколько не удивился, а сказал только: "Эх, ты!..", или что-то еще, и отвернулся с отвращением, так что я тут же решила ехать обратно и уехала, - правда, перед этим почему-то мы прожили еще мирно вместе почти целую неделю.