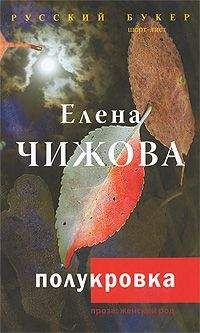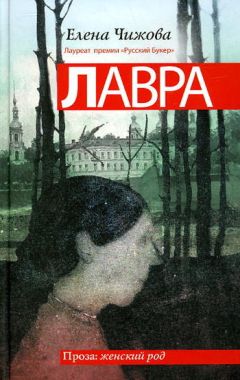"О, Господи", - по правде говоря, я растерялась. За видимым миром вставал мираж - подлинная реальность, скрытая от посторонних глаз. Эту реальность мне предлагалось различить. Я молчала, собираясь: что-то из моего полузабытого прошлого вступало с его словами. Теряясь, я силилась вспомнить. Что-то уродливое, пугающее... так, я вспомнила: мальчик, сидевший в отцовской комнате над книгой с латинскими названиями, - отец Петр, видевший сквозь уродство, умевший отбрасывать видимое и учивший этому меня. Вспомнив, я подумала - нет, и тогда, и теперь - нет, не желаю. Я переморгнула, отгоняя. Теперь я смотрела на отца Глеба с отвращением. Оно было решительным, но бессильным недоказуемым. Отвлекаясь от перечисленных имен, я искала довод - соломинку, зацепиться. Подслеповатая машинописная копия, чьи листы, разительно отличавшиеся от бахромчатых, складывались моими руками, встала перед глазами. Листая мысленно, я думала - там, внутри, присутствующее неявно, крылось что-то такое, о чем говорил отец Глеб, как будто авторы, рассуждая вскользь и от противного, знали его доводы заранее и, отвергая их, пытались предупредить и вооружить меня. Я вспоминала медленно: да, все дело в подробностях, которых они избегали.
Эти подробности относились к дореволюционным временам. Специально оговорив, они огораживались рамками советского века, и эта оговорка не была случайной. Сцепив кисти, я торопила медленную память. Если бы я могла, я вскочила бы мгновенно и, сбегав в соседнюю комнату, принесла разложенные по порядку листы. Копии в доме не было: сложенное я вернула в Митины руки. Мысленно и торопливо, как перед экзаменом, я листала страницы, но приходящее на память не было всеобъемлющим: всплывали отдельные клочки, как будто память становилась рассыпанной рукописью, захватанной многими руками. Едва слушая рассуждения отца Глеба, я пыталась восстановить пробелы: "Как вы сказали? Тучков? Он что - тоже? - перебив, я вспомнила "обер-прокурора" ГПУ, безбожного большевистского куратора церкви. - Но он же...?" - "Да нет, конечно, не тот, а впрочем, не знаю... Я же сказал, все мешается, окончательно не знает никто". По правде говоря, я удивилась. Человек, собирающий ящиками, должен бы знать.
Снова, словно примеривая, я вспоминала деятелей церковного обновления, искала кем-то из них произнесенную фразу, которая в моих руках могла бы стать соломинкой. Как в детской игре - холодно, горячо, - я приближалась к ней, уже зная, что эта фраза содержится не в основном тексте - во вступлении. "Как же там?.." Мысленно я поймала первую попавшуюся, чтобы, уцепившись, как за веревку, вытянуть ведро. "Вы хотите сказать, что деятели церковного обновления, примыкавшие к радикалам, входили в эту тайную организацию?" что-то помешало мне назвать прямо. "Всего вероятнее, - он откликнулся охотно, не удивляясь вопросу. - Достаточно сравнить лозунги, после 1905 года, у обновленцев - совершенно большевистские: масонские и революционные! Такие же, как у нынешних их последователей - церковных радикалов". - "Нынешних?" - я переспросила машинально, почему-то вспомнив про ватных иподьяконов. "Конечно, - он подтвердил, - все эти якунины, львы регельсоны (он называл с маленькой и во множественном) - нынешние обновленцы. Бунтари против церковной иерархии". "Ах, да", - я засмеялась, потому что наконец вспомнила. Так говорил Антонин Грановский: "Обновление - стачка попов, бунтующих против начальства". Господи, вот оно, - хлесткая фраза, брошенная в сердцах, наводила на другое, я думала, если бы не отец Глеб, сама никогда бы не догадалась. Холодно, тепло, горячее, - теперь я стояла в полшаге.
"Есть одна книга, - я начинала с теплого, - я читала давно, не знаю ни авторов, ни названия, потому что - без титульного..." Он слушал заинтересованно и внимательно, словно книга, о которой я упомянула, могла стать еще одним свидетельством - в его ящик. Складывая картотеку, он готовил себя к интеллектуальной деятельности, которая становится таковой в одном единственном случае: если оказывает влияние на духовное будущее страны. "Там есть одна странность, я не могла уловить тогда, то есть чувствовала, но не могла объяснить. В этой книге подробно опровергаются слухи о том, что ваш патриарх Тихон был черносотенцем". Вспоминая на ходу, я говорила о том, что, по свидетельству авторов, патриарх лишь числился почетным членом "Союза русского народа", в каком-то отделении, кажется, Вильно, но членство было формальным. "Мне еще тогда показалось странным, к чему такой напор, ну, числился и числился, мало ли, кто и где, - я говорила легко и весело, двигаясь по тающему следу, под которым, невидные под снегом, лежали теплые трубы отопления. - Если же принять вашу логику, а я готова принять ее, правда в том, что в России числиться нельзя: можно принадлежать - либо к тем, либо к другим. Авторы лукавят: в этом - непоправимом - разделении не существует невинных и незначащих формальностей. Тут главное в том, что авторы отлично знают о своем лукавстве, чувствуют его, а потому сильно пережимают в оправданиях".
Отец Глеб слушал внимательно, не перебивая. Высказав, я замолчала, обдумывая. Беспокойная мысль о каком-то противоречии, в которое я впадаю, шевельнулась в моей душе, и, сосредоточившись, я поняла - дело в таблице. В ней содержалось аморфное множество живущих, уравновешивающее значение основных граф. Теперь, говоря о невозможности числиться, я опровергала самое свойство аморфности, отказывала ему в существовании. Усмехнувшись и вспомнив о другом, явившемся на мою кухню, чтобы научить меня памятливости, я поняла, таблица рушится окончательно. Для меня этот другой был и живым, и мертвым, а значит, разделение на мертвых и живых оказывалось иллюзорным. "Есть две графы гонимые и гонители, и это единственное разделение - полное, исчерпывающее и самодостаточное".
Так я сказала вслух и, сделав последние полшага, увидела край ведра: оно всплывало полным и ясным. Теперь, склоняясь над колодцем, я видела все, о чем авторы упомянули вскользь, почти умолчали. "Большинство архиереев числились почетными членами "Союза русского народа"", я вспомнила и повторила дословно, как будто читала с листа. Лицо отца Глеба заострилось. "Вот оно - главное, понимаете, не числились почетными, а были и остаются действительными, потому что в союзах подобного рода нельзя, невозможно числиться".
"Ну и что? - он заговорил снова, как ни в чем ни бывало. - Кто-то должен противостоять. Церковь - это единственная сила, способная противостоять масонскому большевизму. Никто, кроме церкви, не обладает столь развитой иерархической структурой, имеющей силы посрамить принципы их безбожного социалистического централизма. Нормальный человек не может пребывать в одиночестве, и именно церковь связывает людей в единое целое, захватывает глубинные пласты, до которых принцип партийного централизма не способен добраться по самой своей двуличной природе". Он говорил о том, что церковная вера формирует цельное сознание, борясь с бесовской раздвоенностью, закономерно поражающей атеистов, рожденных и воспитанных в преступной управляемой преступной кликой - стране. Я слушала слова, которые он, в отличие от меня, легко сплетал в связное. Они казались знакомыми, я уже слышала, но в его устах они обретали иную природу. Эти слова росли из чужого корня: именно из него - из века в век - рождались люди другого, чуждого мне помета...
"Большевики - преступники, но то, что вы говорите, про эту вашу организацию, сомкнувшуюся с большевиками, - я начала медленно и твердо, это мракобесие, такое же гнусное, как действительное членство в Союзе русского народа, - я сказала главное и перевела дыхание, - из этого членства может вырасти такое же..." - сжатым кулаком я ударила по столу. Отец Глеб усмехнулся. "Мракобесие - это революционеры, атеисты и коммунисты: все и всяческие радикалы, - он возражал. - Они - носители раздвоенного сознания, и эта раздвоенность рождает единственно ненависть именно потому, что она противна душе. Раздвоенный человек - человек больной и погибший". Он сидел передо мною и, холодно и отстраненно, говорил о боли, терзавшей меня изнутри. Говорил и указывал путь к спасению - от имени церкви. На этом пути дозволялось забыть о грехах: избавиться, как от болезней, отторгнуть от души. Я поняла: не о милости Божьей, не о ежедневной молитве. Сурово и прямо отец Глеб говорил о цене, которую требовалось заплатить за внутреннюю цельность. Ценой была жертва, и в эту жертву приносилось мое - раздвоенное - сознание. Именно так, готовясь к интеллектуальной деятельности, он понимал будущее.
У меня не было сил возразить. Словно двигаясь по темной лаврской аллее, до которой, оставленный на площади, не достигал свет бахромчатых книг, я ступала неровно. Логикой вещей, переманив в свидетели мою неотвязную боль, он выводил на свою дорогу: то здесь, то там на ней лежали ледяные, изъезженные чужими ногами, язычки. Я смотрела вперед, но чувствовала усталость. Сегодняшний день, до краев наполненный исповедью, отнял последние силы. Отложившись от Мити, я пребывала в одиночестве, в котором нормальный человек не может пребывать безнаказанно. Моим наказанием стала изменяющая память: не измени она мне, я обязательно вспомнила бы Митины слова: с такими, как Красницкий, надо расходиться до процесса.