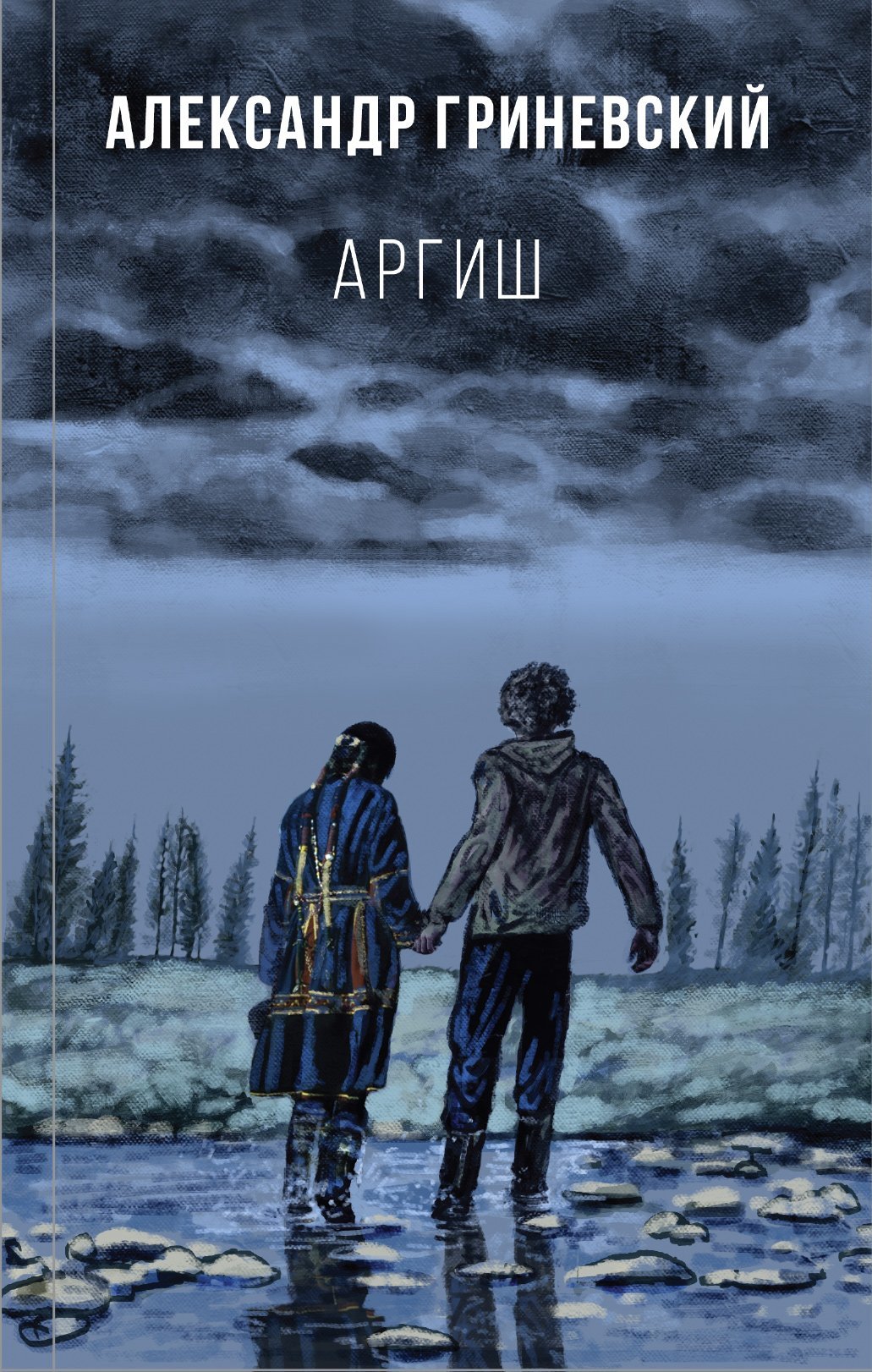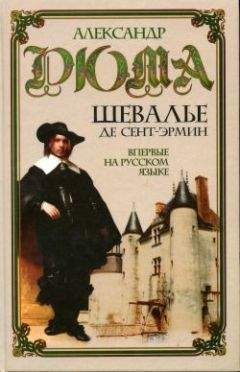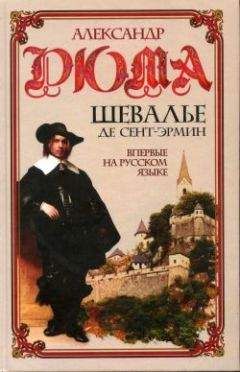Само твоё рождение загнало тебя в эти рамки. Беги, если хочешь, или плетись от одного контрольного пункта к другому. Но не рвись ты наружу.
– Тебе не понять! У вас культура. У нас кастрюли на могильных крестах развешаны! – выкрикнула с раздражением.
– Ты прямо Дон Кихот, только в юбке, – и сам услышал презрение в своём голосе.
– Да! Меня как только в интернате не обзывали. Дурой чаще всего.
Тебе хорошо говорить. Вас много. А мы? Окраина. Спившийся народец.
– Вера, я не говорил этого.
Не слушала.
– У меня деда! Не знаешь! – истерика набирала силу.
Она просто сорвалась, вдруг понял Вадим, не может больше тянуть, устала.
– Верушка, перестань!
– Уйди! – волосы растрёпаны, космами – на лицо, глаза злые. – Пускай он в бубен бьёт! Пусть поёт! Пишет! Пусть плохо. Наплевать! Вы не понимаете. Смеётесь. Только не прекращает, пусть! Я для него всё сделаю.
Раскачивается, глаза закрыты, рвёт судорожно траву и отбрасывает.
– Вера. Это истерика. Опомнись! – старался говорить спокойно. Куда там…
– Ты? Ты сам можешь? Что можешь?
Вот это было обидно. В самую точку. Сжался, словно ударила.
Вскочила. Трава, выдернутая, в кулачках зажата. К деревьям, покачивается, ногами неуверенно перебирает, но идёт.
Остановилась.
Плечи – вниз.
Повернулась.
К нему, бегом, со всех сил, подол прилип, руки раскинула, словно взлететь хочет – кричит: «Вадим! Прости! Прости меня».
На колени перед ним, обхватила. Повалились. Целует – губы, и слёзы по лицу. И радостно, что всё закончилось, и оторвать её от себя невозможно.
Шепчет, приговаривает: «Вадим. Не слушай меня, не слушай! Дура я! Ты умный, ты добрый. Ты простишь, я знаю. Не злись! Я послушная буду».
Плечи ходуном ходят, но ведь не плачет.
– Верушка, – протяжно, с придыханием. – Всё хорошо, Верушка. Смотри, у тебя веточка в волосах запуталась. Сейчас мы её вытащим.
Замерла. Ждёт.
Перебирал волосы. Гладил. Выпутывал сухую еловую веточку, что запуталась в волосах.
Взял под подбородок, повернул лицо к себе – мокрое от слёз, жалкое.
Себя почувствовал, силу.
– Всё, Вера?
– Всё, Вадим. Прости.
Замерли.
Он обнимал её, она прижалась, обхватила, приникла телом. И растворились в вечернем воздухе все вопросы и мертвецы, которых они тащили вслед за собой. Отступило прошлое.
Только поляна в лесу, они – двое как одно целое – и река – безразлично мимо.
Потом они ели толчённую с сахаром ягоду – вкусно, но очень мало. Пили «чай».
Молчали. Слишком много сегодня было сказано. Смотрели друг на друга и улыбались.
Потом легли возле костра на расстеленных шкурах. Тесно прижались друг к другу, завернувшись в одеяло. Вот тогда и родилась их мечта, их сказка, в которую они поверили.
Вадим шептал, закрыв глаза, она, замерев, слушала.
– Есть в Атлантическом океане остров. Он небольшой – километров двести в длину и шестьдесят в ширину. На этом острове живут люди – европейцы. Температура воздуха всё время одна и та же – двадцать шесть градусов – вечное лето!
А какой океан вокруг! Какие волны! Огромные, заворачивающиеся жгутом при подходе к берегу. И радуга играет в брызгах, срывающихся с гребня. Рушатся. Длинно и плавно накатывают на берег. Отступают, оставляя шлейф белой пены на песке. И дикие пляжи, и песок на этих пляжах не белый, а чёрный.
По освещённым набережным гуляют люди. Выступают бродячие музыканты, жонглёры. Столики кафе вынесены наружу – океан шумит в темноте волной у ног – играет музыка.
Днём молодёжь занимается сёрфингом. Накатывают на берег волны, мчатся вдоль заваливающегося гребня молодые парни и девчонки, балансируя на узких досках. В воде, тут и там, виднеются головы тех, кто готовится поймать свою волну.
А можно сесть в машину, проехать двадцать километров в глубь острова, и ты окажешься в зиме! Играй в снежки, лепи снеговика. В центральной части острова высится потухший вулкан – вершина, покрытая снегом, а вокруг разлилась пустыня из навороченных обломков лавы.
Но ты не думай, эта лавовая пустыня – она маленькая. Основная часть острова – это леса – сосновые, буковые, лиственные. Стоят деревья в три обхвата, тянут ветви к солнцу. Просторно, светло, нагретой хвоей пахнет.
Скалы, обрывы, каньоны, пляжи.
Вокруг океан! Он живой, он страшный, он прекрасный – дышит тяжело, вздымая волны, гонит их к берегу. Дух захватывает от этой мощи.
– Я хочу на этот остров. Отвези меня туда. Пожалуйста! – шептала Вера.
– Конечно! Мы поедем вместе. Я – обещаю! – шептал в ответ, крепче прижимая к себе.
– Да! Да! Обязательно! Знаю, зачем камушки взяла. Чувствовала. Прекрасное впереди.
День восьмой – день семнадцатый
Последующие дни казались неразделимы. Нет, их можно было поделить на дни и ночи, но по сути – это был один день, бесконечно длинный и бесконечно тяжёлый.
Вера каким-то сверхъестественным чутьём отыскивала едва различимые звериные тропы, петляющие в зарослях вдоль реки. И они шли и шли вниз по течению, продирались сквозь кусты, перешагивали через поваленные и сгнившие стволы деревьев. Валились на землю от усталости, лежали, закрыв глаза, вставали и шли снова.
Она учила его: «Не иди за мной след в след. По лесу так не ходят. Иди в двух шагах сзади. Будешь идти ближе – я ветку отклоню, отпущу, тебя по лицу, по глазам хлестнёт.
И на поваленные стволы нельзя наступать. Только перешагивать. Они мокрым мхом поросли, кора на них гнилая – наступишь, соскользнёт нога. Вывих или, не дай Бог, перелом. В лесу опасливым надо стать, осторожным».
– Там можно целый год проходить в майке и шортах, да хоть босиком, – рассказывал Вадим, с натугой стягивая сапог с ноги и выливая из него грязную жижу. – Но ведь женщины – они везде женщины! И вот представь себе такую картину. Идёт вечером по освещённой набережной пара. Она держит его под руку, болтают о чём-то. На нём – шорты, майка и шлёпанцы. На ней – меховая шубка нараспашку и осенние сапоги. И никто не удивляется. Женщина! Ей надо себя украсить, себя показать.
Плот! Сделать плот. Не брести вдоль реки, продираясь сквозь прибрежные заросли, а плыть по воде. Пусть медленно, главное – не идти.
Поначалу эта мысль была навязчивой. Взгляд сам цеплялся за сухие поваленные стволы. Верёвка есть – связать можно. Вот топора не было. Топор без топорища и лопату без черенка оставили перед переправой, чтобы не тащить на себе лишнюю тяжесть. Решили, что обойдутся ножом. Сейчас он жалел об этом. Понимал, что сучья ножом не обрезать – топор нужен. Правда,