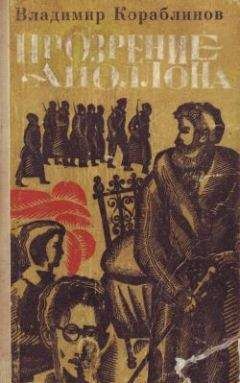– Чья собачонка? – спросил Аполлон.
– Да чья – Степанычева. Старичка, значит, этого нашего. Ведь это ж подумать – до чего животная преданная!
Принесли ведро с кипятком, хлеб.
– Ешь, ребяты, наедай шею на казенных харчах! – пошутил солдат-охранник, только что заступивший на дежурство. Большой, широколицый, с какой-то чудно́й, разноцветной, пегой бородой, он стоял в дверях, с добродушной улыбкой причмокивал сочувственно губами, словно говорил: «Эх, жалко мне вас, мужики, да что ж делать, начальство велит…»
– Слышь, дядя, а из чего ж пить-то? – послышались голоса. Кипяток принесли впервые за три дня, ни кружек, ни иной посуды ни у кого не было.
– Чего-нито сообразим, – замыкая дверь, сказал охранник.
Вскоре он появился с охапкой пустых консервных банок, с грохотом вывалил их на пол.
– Оно бы и не положено, – сказал, – так ведь тоже крест носим, не турки какие…
С жадностью хлебали мутную, противно пахнущую жестью и вонючими консервами, успевшую уже остыть, теплую водицу.
– Эй, Капустин! – крикнул милиционеру вчерашний весельчак, так лихо собиравшийся на тот свет без пересадки. – Толкани деда-то, Капустин! А то ведь все ведро так и расхлебаем…
– Степаныч! – позвал милиционер. – А Степаныч! Вставай, горяченького попить принесли…
Молчал Степаныч, не откликался.
– Да жив ли? – робко сказал кто-то.
И сразу все притихли. Капустин приподнял край черной рогожи. На него глянули широко открытые, стеклянные, немигающие глаза старика.
Дениса Денисыча допрашивал щеголеватый, остро, неприятно пахнущий цветочным одеколоном полковник. Не первой молодости, но старательно молодящийся, он заметно позировал; в жестах, в манере откидывать со лба наполеоновскую прядку волос, в выпячивании подбородка – во всем чувствовалось любование собой, игра, что-то ненастоящее, фальшивое. «Где я его видел?» – силился вспомнить Денис Денисыч. Он рассеянно слушал полковника, односложно, невпопад отвечая на его вопросы. С ужасом и болью думал об умирающей, брошенной всеми… «Господи, и глаза закрыть некому… Проснется, позовет: «Деня!» – и никто не ответит, никто не подойдет. Боже ты мой, как же все нелепо сложилось!»
– И вот вы, русский дворянин… – выпячивая подбородок, скучно тянул офицер. – В час, когда гибнет отечество…
«Правда, когда уводили, встретился Пыжов, обещался заглядывать к старушке… Ах да что Пыжов! Он, конечно, рад без памяти, что наконец отделался от меня… Может быть, он-то и донес? Да нет, где же – улица была совершенно пуста, он ничего не мог увидеть…»
– Человек культурный, образованный, – откидывая прядку со лба, зудел полковник, – вы связались с этим жидовским отребьем…
«О чем это он? Какое отребье? А-а, Ляндрес… Но почему же – отребье? Тот штабс-капитанишка, что обыскивал давеча, – вот это действительно отребье… Мелкий воришка, как он рассовывал по карманам медальоны, камеи… Золотой брегет, старинные дедовские часы…»
– Итак, господин Легеня, надеюсь, вы поняли всю двусмысленную опасность вашего положения…
Полковник лизнул испачканный лиловыми чернилами палец, потер его бумажкой.
«Опасность положения? Да, конечно… Ах да пустяки это все! Там человек умирает – старый, одинокий, вот что ужасно!»
– Да, да, – сказал, – это ужасно…
– А, вот видите! – весело воскликнул полковник. – Давно бы так. Однако вам стоит только назвать адрес этой большевистской кухни…
– Простите… о чем вы?
– О подпольной редакции, разумеется. Где она?
– Не знаю, – сказал Денис Денисыч. – Откуда мне знать? Я никакого отношения к ней не имею.
– Свежо предание, – усмехнулся полковник. – Вы, может быть, станете отрицать и свои родственные связи?
– Какие связи? – Денис Денисыч тут уж действительно ничего не понимал. – Какие связи? У меня никого нет, один как перст.
– А в Москве?
– Тетка какая-то двоюродная, если еще жива. Но я ее даже в лицо не знаю.
– М-м… Тетка, говорите?
Постучал карандашиком по столу. Щелкнул портсигаром, закурил.
– А товарищу Луначарскому кем изволите доводиться?
– Что-о-о?! – Денис Денисыч даже подскочил на стуле.
– Спокойно, спокойно, – сказал полковник. – Итак?
– Какой вздор! Это дурацкий бред какой-то!
– И это, значит, отрицаете?
– Конечно, что за глупости!
– Полегче на поворотах, – нахмурился полковник. – Ну, что ж, – вздохнул с притворным сожалением, – имейте в виду, сейчас вы имели дело с интеллигентным человеком, но, увы, не оценили этого. К глубокому прискорбию, поверьте, вынужден познакомить вас со своим помощником…
Он тряхнул крошечным серебряным колокольчиком.
– Поручика Рябых, – коротко приказал вошедшему солдату.
Перебирая на столе какие-то бумажки, нет-нет да и посматривал на Легеню.
«Где же, где я его видел? – напряженно вспоминал Денис Денисыч. – Этот наполеоновский чубчик… этот подбородок…».
– С профессором Коринским, простите, не знакомы?
«Ах, вон что!»
Денис Денисыч вспомнил наконец, как ранней весной зашел к Аполлону взять у него тетрадь с начальными главами своей повести и как профессорша представила его какому-то неопрятному, заросшему субъекту, сказала томно: «Кузен… поэт, артист, проездом из Питера…»
Совершенно верно: этот чубчик, этот гвардейский говорок… Ну, конечно!
Но как ответить? Дело так ведь вдруг обернулось, что лучше, пожалуй, скрыть. Не повредить бы Аполлону Алексеичу.
– Нет, – сказал твердо. – Не имею чести.
Полковник гмыкнул неопределенно, посмотрел на лиловый палец, поморщился, хотел, кажется, еще что-то сказать, но тут появился поручик Рябых, литой чугунный коротышка, и, поймав взгляд полковника, равнодушно буркнул Денису Денисычу:
– Попрошу.
…К вечеру Легеню отвели в подвал «Гранд-отеля» и заперли в тесный закуток, в какую-то каменную, совершенно темную, узкую щель. Он был так избит, что уже и тела своего почти не чувствовал. Правый глаз сверлила, жгла невыносимая боль, пульсирующими ударами стучала в висок. И липкая густая кровь сочилась по щеке, никак не могла остановиться.
Денис Денисыч рухнул на пол, едва только, взвизгнув ржавыми петлями, захлопнулась тяжелая дверь.
И то появлялась, страшно гримасничая, то в мутном тумане исчезала голая бритая голова чугунного поручика. Он не кричал, допрашивая, он даже ни разу не повысил голоса, но сколько злобы, сколько нечеловеческой, фантастической злобы и ненависти вкладывал он в свои удары…
А бил поручик Рябых кавалерийским стеком.
В другой такой же тесной каменной щели лежал Ляндрес.
Его кинули сюда замертво. Он долго не приходил в сознание, и сколько раз в течение ночи часовой ни подкрадывался к двери, сколько ни прислушивался, в щели была тишина. Лишь близко к рассвету послышалось какое-то странное отрывистое бормотание.
– Сто николаевскими… тысячу керенками… Сто николаевскими! Что ж это вы, ваше благородие… ай, как некрасиво! Тиф! Тиф, ваше благородие! Вы же заразитесь, ну…
Он как-то чудно выговаривал: што николаевшкими, жаражитесь. Часовой послушал-послушал и не то сказал, не то подумал:
– Вышибли из малого мозги-то. Спятил, стал быть.
Нет, Ляндрес не спятил. Он просто почувствовал, что еще не умер, что жив. Но та жизнь, в которой он сейчас жил, была темная жизнь сна, кошмарного бега, а настоящая, светлая, вон вдалеке сияла звездочкой, тонким лучиком, но где-то так далеко, что казалась недосягаемой. Ах, вот если б он сумел добежать до нее, тогда кончился бы сон и началась новая, блистательная жизнь… А пока он должен бежать… бежать… за ним гнались.
– Сто николаевскими! Тысячу керенками! – как заклинание выкликивал. Хрипел. Задыхался. Падал, но все-таки – бежал. И звездочка все ближе, ближе становилась… И вот, наконец… – Рита!!
Она, она! Курточка не стягивается на груди, из-под шапочки волосы выбились, прилипли ко лбу…
– Фимушка, милый… ах, дурачок!
Сознание возвращалось волнами – набежит и откатится, набежит и откатится.
Но, слава богу, все время она была тут, возле.
– Фимушка…
Поддерживала его своими сильными руками, не давала упасть. Шептала: «Прямее, прямее стой! Голову держи высоко… Еще выше! Вот так…»
Но это – потом. А сперва он был жалок и беспомощен, растерянно косноязычил:
– Вот… предложить зашел… как музейному работнику… Вещица – Будда называется. Прошу сто николаевскими, на тысячу керенками не согласен. Вот они тысячу дают. Нет, позвольте, что же это за цена?..
Черноватый, юркий, похожий на хорька офицер удивился:
– Сто николаевскими? За такую безделку?
И сунул Будду в карман необъятных галифе. Затем во время обыска, бессовестный, Денис Денисычевы золотые часики туда же спровадил. Тут-то Ефима и понесло:
– Что же это вы, ваше благородие… Ай как некрасиво!
– Что-с? – Офицер оскалил мелкие зубки (хорек, чистый хорек! У него и голосишко был хориный – писк). – А ну-ка, Замотайлов, подыми старуху!