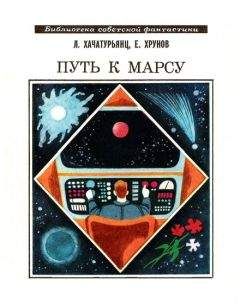Басистов продолжал благоговеть перед Рудиным и ловить на лету каждое его слово. Рудин мало обращал на него внимания. Как-то раз он провел с ним целое утро, толковал с ним о самых важных мировых вопросах и задачах и возбудил в нем живейший восторг, но потом он его бросил… Видно, он только на словах искал чистых и преданных душ. С Лежневым, который начал ездить к Дарье Михайловне, Рудин даже в спор не вступал и как будто избегал его. Лежнев также обходился с ним холодно, а впрочем, не высказывал своего окончательного мнения о нем, что очень смущало Александру Павловну. Она преклонялась перед Рудиным; но и Лежневу она верила. Все в доме Дарьи Михайловны покорялись прихоти Рудина: малейшие желания его исполнялись. Порядок дневных занятий от него зависел. Ни одна partie de plaisir[60] не составлялась без него. Впрочем, он не большой был охотник до всяких внезапных поездок и затей и участвовал в них, как взрослые в детских играх, с ласковым и слегка скучающим благоволением. Зато он входил во всё: толковал с Дарьей Михайловной о распоряжениях по имению, о воспитании детей, о хозяйстве, вообще о делах; выслушивал ее предположения, не тяготился даже мелочами, предлагал преобразования и нововведения. Дарья Михайловна восхищалась ими на словах — и только. В деле хозяйства она придерживалась советов своего управляющего, пожилого одноглазого малоросса, добродушного и хитрого плута. «Старенькое-то жирненько, молоденькое худенько», — говаривал он, спокойно ухмыляясь и подмигивая своим единственным глазом.
После самой Дарьи Михайловны Рудин ни с кем так часто и так долго не беседовал, как с Натальей. Он тайком давал ей книги, поверял ей свои планы, читал ей первые страницы предполагаемых статей и сочинений. Смысл их часто оставался недоступным для Натальи. Впрочем, Рудин, казалось, и не очень заботился о том, чтобы она его понимала — лишь бы слушала его. Близость его с Натальей была не совсем по нутру Дарье Михайловне. «Но, — думала она, — пускай она с ним поболтает в деревне. Она забавляет его, как девочка. Беды большой нет, а она все-таки поумнеет… В Петербурге я это всё переменю…»
Дарья Михайловна ошибалась. Не как девочка болтала Наталья с Рудиным; она жадно внимала его речам, она старалась вникнуть в их значение, она повергала на суд его свои мысли, свои сомнения; он был ее наставником, ее вождем. Пока — одна голова у ней кипела… но молодая голова недолго кипит одна. Какие сладкие мгновения переживала Наталья, когда, бывало, в саду, на скамейке, в легкой, сквозной тени ясеня, Рудин начнет читать ей гётевского «Фауста», Гофмана, или «Письма» Беттины, или Новалиса,* беспрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось темным! Она по-немецки говорила плохо, как почти все наши барышни, но понимала хорошо, а Рудин был весь погружен в германскую поэзию, в германский романтический и философский мир и увлекал ее за собой в те заповедные страны. Неведомые, прекрасные, раскрывались они перед ее внимательным взором; со страниц книги, которую Рудин держал в руках, дивные образы, новые, светлые мысли так и лились звенящими струями ей в душу, и в сердце ее, потрясенном благородной радостью великих ощущений, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга…
— Скажите, Дмитрий Николаич, — начала она однажды, сидя у окна за пяльцами, — ведь вы на зиму поедете в Петербург?
— Не знаю, — возразил Рудин, опуская на колени книгу, которую перелистывал, — если соберусь со средствами, поеду.
Он говорил вяло: он чувствовал усталость и бездействовал с самого утра.
— Мне кажется, как не найти вам средства?
Рудин покачал головой.
— Вам так кажется!
И он значительно глянул в сторону.
Наталья хотела было что-то сказать и удержалась.
— Посмотрите, — начал Рудин и указал ей рукой в окно, — видите вы эту яблоню: она сломилась от тяжести и множества своих собственных плодов. Верная эмблема гения…
— Она сломилась оттого, что у ней не было подпоры, — возразила Наталья.
— Я вас понимаю, Наталья Алексеевна; но человеку не так легко сыскать ее, эту подпору.
— Мне кажется, сочувствие других… во всяком случае, одиночество…
Наталья немного запуталась и покраснела.
— И что вы будете делать зимой в деревне? — поспешно прибавила она.
— Что я буду делать? Окончу мою большую статью — вы знаете — о трагическом в жизни и в искусстве — я вам третьего дня план рассказывал — и пришлю ее вам.
— И напечатаете?
— Нет.
— Как нет? Для кого же вы будете трудиться?
— А хоть бы для вас.
Наталья опустила глаза.
— Это не по моим силам, Дмитрий Николаич!
— О чем, позвольте спросить, статья? — скромно спросил Басистов, сидевший поодаль.
— О трагическом в жизни и в искусстве, — повторил Рудин. — Вот и г. Басистов прочтет. Впрочем, я не совсем еще сладил с основной мыслью. Я до сих пор еще не довольно уяснил самому себе трагическое значение любви.
Рудин охотно и часто говорил о любви. Сначала при слове: любовь — m-lle Boncourt вздрагивала и навастривала уши, как старый полковой конь, заслышавший трубу, но потом привыкла и только, бывало, съежит губы и с расстановкой понюхает табаку.
— Мне кажется, — робко заметила Наталья, — трагическое в любви — это несчастная любовь.
— Вовсе нет! — возразил Рудин, — это скорее комическая сторона любви… Вопрос этот надобно совсем иначе поставить… надо поглубже зачерпнуть… Любовь! — продолжал он, — в ней всё тайна: как она приходит, как развивается, как исчезает. То является она вдруг, несомненная, радостная, как день: то долго тлеет, как огонь под золой, и провивается пламенем в душе, когда уже всё разрушено; то вползет она в сердце, как змея, то вдруг выскользнет из него вон… Да, да; это вопрос важный. Да и кто любит в наше время? кто дерзает любить?
И Рудин задумался.
— Что это Сергея Павлыча давно не видать? — спросил он вдруг.
Наталья вспыхнула и нагнула голову к пяльцам.
— Не знаю, — прошептала она.
— Какой это прекраснейший, благороднейший человек! — промолвил Рудин, вставая. — Это один из лучших образцов настоящего русского дворянина…
М-llе Boncourt посмотрела на него вкось своими французскими глазками.
Рудин прошелся по комнате.
— Заметили ли вы, — заговорил он, круто повернувшись на каблуках, — что на дубе — а дуб крепкое дерево — старые листья только тогда отпадают, когда молодые начнут пробиваться?
— Да, — медленно возразила Наталья, — заметила.
— Точно то же случается и с старой любовью в сильном сердце: она уже вымерла, но всё еще держится; только другая, новая любовь может ее выжить.
Наталья ничего не ответила.
«Что это значит?» — подумала она.
Рудин постоял, встряхнул волосами и удалился.
А Наталья пошла к себе в комнату. Долго сидела она в недоумении на своей кроватке, долго размышляла о последних словах Рудина и вдруг сжала руки и горько заплакала. О чем она плакала — бог ведает! Она сама не знала, отчего у ней так внезапно полились слезы. Она утирала их, но они бежали вновь, как вода из давно накопившегося родника.
В тот же самый день и у Александры Павловны происходил разговор о Рудине с Лежневым. Сперва он всё отмалчивался; но она решилась добиться толку.
— Я вижу, — сказала она ему, — вам Дмитрий Николаевич по-прежнему не нравится. Я нарочно до сих пор вас не расспрашивала; но вы теперь уже успели убедиться, произошла ли в нем перемена, и я желаю знать, почему он вам не нравится.
— Извольте, — возразил с обычной флегмой Лежнев, — коли уж вам так не терпится; только, смотрите, не сердитесь…
— Ну, начинайте, начинайте.
— И дайте мне выговорить всё до конца.
— Извольте, извольте, начинайте.
— Итак-с, — начал Лежнев, медлительно опускаясь на диван, — доложу вам, мне Рудин действительно не нравится. Он умный человек…
— Еще бы!
— Он замечательно умный человек, хотя в сущности пустой…
— Это легко сказать!
— Хотя в сущности пустой, — повторил Лежнев, — но это еще не беда: все мы пустые люди. Я даже не ставлю в вину ему то, что он деспот в душе, ленив, не очень сведущ…
Александра Павловна всплеснула руками.
— Не очень сведущ! Рудин! — воскликнула она.
— Не очень сведущ, — точно тем же голосом повторил Лежнев, — любит пожить на чужой счет, разыгрывает роль, и так далее… это всё в порядке вещей. Но дурно то, что он холоден, как лед.
— Он, эта пламенная душа, холоден? — перебила Александра Павловна.
— Да, холоден, как лед, и знает это и прикидывается пламенным. Худо то, — продолжал Лежнев, постепенно оживляясь, — что он играет опасную игру, — опасную не для него, разумеется; сам копейки, волоска не ставит на карту — а другие ставят душу…