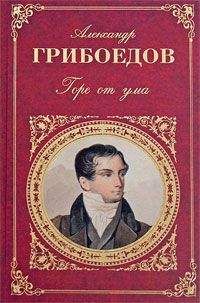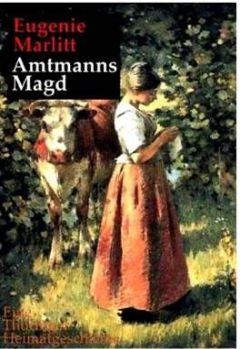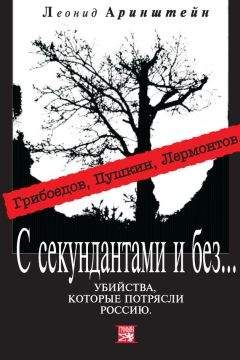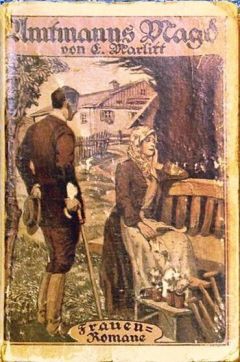Можно сказать: пыль туманит даль, отдаленность, но и то слишком фигурно, а отдаление просто значит, что предмет удаляется; если принять, что пыль туманит отдаленье, можно будет сказать: что она туманит удаленье и приближенье. Но за сим следует:
Теперь я догадываюсь: отдаленье поставлено для рифмы. О, рифма![22] Далее:
Где ж, Людмила, твой герой?
Слишком напыщенно.
Где твоя, Людмила, радость!
Ах! прости надежда-сладость.
Надежда-сладость. – Опять-таки для рифмы! Одно существительное сливают с другим, для того, чтоб придать ему понятие, которое не заключается в нем необходимо. Напр(имер), девица-краса, любовник-воин, но надежда – всегда сладость. – Далее мать говорит дочери:
Мертвых стон не воскресит.
А дочь отвечает:
. . . . .
Не призвать минувших дней
. . . . .
Что прошло, не возвратимо.
. . . . .
Возвращу ль невозвратимых?
Мне кажется, что они говорят одно и то же, а намерение поэта – заставить одну говорить дело, а другую то, что ей внушает отчаяние. Вообще, как хорошенько разобрать слова Людмилы, они почти все дышат кротостью и смирением, за что ж бы, кажется, ее так жестоко наказывать? Должно думать, что за безрассудные слова, ибо под концом усопших хор ей завывает:
Смертных ропот безрассуден,
Час твой бил – и пр.
Но где же этот ужасный ропот, который навлек на нее гнев всевышнего? Самая богобоязненная девушка скажет то же, когда узнает о смерти своего любезного. Царь небесный нас забыл – вот самое сильное, что у ней вырывается в горести, но при первом призраке счастия, когда она мертвеца принимает за своего жениха, ее первое движение благодарить за то бога, и вот ее слова:
Знать тронулся царь небесный
Бедной девицы тоской!
Неужели это так у Бюргера? Раскрываю «Ленору». Вот как она говорит с матерью:
О Mutter! Mutter! was mich brennt,
Das lindert mir kein Sakrament.
Kein Sakrament mag Leben
Den Todten wieder geben.[23]
Извините, г-н Бюргер, вы не виноваты! Но возвратимся к нашей Людмиле. Она довольно погоревала, довольно поплакала, наступает вечер.
И зеркало зыбких вод
И небес далекий свод
В светлый сумрак облеченны.
Облеченны вместо облечены нельзя сказать; это маленькая ошибка против грамматики. О, грамматика, и ты тиранка поэтов! Но чу! бьет полночь! К Людмиле крадется мертвец на цыпочках, конечно, чтоб никого не испугать.
Тихо брякнуло кольцо,
Тихим шопотом сказали:
Все в ней жилки задрожали,
То знакомый голос был,
То ей милый говорил:
«Спит иль нет моя Людмила,
Помнит друга иль забыла?» и т(ак) далее.
Этот мертвец слишком мил; живому человеку нельзя быть любезнее.
После он спохватился и перестал говорить человеческим языком, но всё-таки говорит много лишнего, особливо когда подумаешь, что ему дан краткий, краткий срок и миг страшен замедленья.
Мы коней своих седлаем,
Темны кельи покидаем.
Такие стихи:
Хотя и не варяго-росски,
Но истинно немного плоски.
И не прощаются в хорошем стихотворении.
Поздно я пустился в путь,
Ты моя – моею будь!
К чему приплетен последний стих?
Способ, который употребляет мертвец, чтоб уговорить Людмилу за собою следовать, очень оригинален:
Чу! совы пустынной крики!
. . . . .
Едем, едем. . .
Кажется, что крик сов вовсе не заманчив, и он должен бы удержать Людмилу от ночной поездки. И это чу! слишком часто повторяется:
Чу! совы пустынной крики!
. . . . .
Чу! полночный час звучит.
. . . . .
Чу! в лесу потрясся лист!
Чу! в глуши раздался свист!
Такие восклицания надобно употреблять гораздо бережнее; иначе они теряют всю силу. Но в «Людмиле» есть слова, которые преимущественно перед другими повторяются. Мертвец говорит:
Слышишь! пенье, брачны лики!
Слышишь! борзый конь заржал.
. . . . .
Слышишь! конь грызет бразды!
А Людмила отвечает:
Наконец, когда они всего уже наслушались, мнимый жених Людмилы признается ей, что дом его гроб и путь к нему далек. Я бы, например, после этого ни минуты с ним не остался; но не все видят вещи одинаково. Людмила обхватила мертвеца нежною рукой и помчалась с ним:
Скоком, лётом по долинам. —
Доро́гой спутник ее ворчит сквозь зубы, что он мертвый и что:
Путь их к келье гробовой.
Эта несообразность замечена уже рецензентом «Ольги». Но что ж? Людмила верно вскрикнула, обмерла со страху? Она спокойно отвечает:
Что до мертвых? что до гроба?
Мертвых дом – земли утроба.
Впрочем, доро́гой Людмиле довольно весело: ей встречаются приятные тени, которые
Легким, светлым хороводом
В цепь воздушную свились.
И вкруг ее:
Поют воздушны лики,
Будто в листьях повилики
Вьется легкий ветерок,
Будто плещет[24] ручеек.
Потом мертвец опять сбивается на тон аркадского пастушка и говорит своему коню:
Но пусть Людмила мчится на погибель; не будем далее за нею следовать.
Чтоб не нагнать скуки на себя, ни на читателя, сбрасываю с себя маску привязчивого рецензента и, в заключение, скажу два слова о критике вообще. Если разбирать творение для того, чтобы определить, хорошо ли оно, посредственно или дурно, надобно прежде всего искать в нем красот. Если их нет – не стоит того, чтобы писать критику; если же есть, то рассмотреть, какого они рода? много ли их или мало? Соображаясь с этим только, можно определить достоинство творения. Вот чего рецензент «Ольги» не знает или знать не хочет.
Июль 1816
О переводе «Семелы» Шиллера
Вы знаете прекрасные сцены Шиллеровой «Семелы». По усиленной просьбе моей, А. А. Жандр согласился перевести их на русский язык и добавить от себя, чего недостает в подлиннике. Вообще он обогатил целое новыми, оригинальными красотами. И в отрывке, который при сем препровождаю, лирическое во втором явлении от слова до слова принадлежит ему. Грибоедов.
1817
Письмо к издателю «Сына отечества» из Тифлиса от 21 января (1819 г.)
Вот уже полгода, как я расстался с Петербургом; в несколько дней от севера перенесся к полуденным краям, прилежащим к Кавказу (не мысленно, а по почте: одно другого побеспокойнее!); вдоль по гремучему Тереку вступил в скопище громад, на которые, по словам Ломоносова, Россия локтем возлегла, но теперь его подвинула уже гораздо далее. Округ меня неплодные скалы, над головою царь птица и ястреба, потомки Прометеева терзателя; впереди светлелись снежные верхи гор, куда я вскоре потом взобрался и нашел сугробы, стужу, все признаки глубокой зимы; но на расстоянии нескольких верст суровость ее миновалась: крутой спуск с Кашаура ведет прямо к весенним берегам Арагвы; оттуда один шаг до Тифлиса, и я уже четвертый месяц как засел в нем, и никто из моих коротких знакомых обо мне не хватится, всеми забыт, ни от кого ни строчки! Стало быть, стоит только заехать за три тысячи верст, чтобы быть как мертвым для прежних друзей! Я не плачу́ им таким же равнодушием, тем, которых любил, бывши с ними в одном городе; люблю и теперь вспоминать проведенное с ними приятное время, всегда об них думаю, наведываюсь у приезжих обо всем, что происходит под вашим 60 градусом северной широты; всё, что оттуда здесь узнать можно, самые незначущие мелочи сильно действуют на меня, и даже газетные ваши вести я читаю с жадностью.
Теперь представьте мое удивление: между тем, как я воображал себя на краю света, в уголке, пренебреженном просвещенными жителями столицы, на-днях, перебиравши листки Русского Инвалида, в № 284 прошедшего декабря, между важными известиями об американском жарком воскресенье, о бесконечном процессе Фуальдеса, о докторе Верлинге, Бонапартовом лейб-медике, вдруг попадаю на статью о Грузии: стало быть, эта сторона не совсем еще забыта, думал я; иногда и ею занимаются, а следовательно, и теми, которые в ней живут… И было порадовался, но что ж прочел? Пишут из Константинополя от 26 октября, будто бы в Грузии произошло возмущение, коего главным виновником почитают одного богатого татарского князя. Это меня и опечалило, и рассмешило.
Скажите, не печально ли видеть, как у нас о том, что полагают происшедшим в народе, нам подвластном, и о происшествии столько значущем, не затрудняются заимствовать известия из иностранных ведомостей, и не обинуясь выдают их по крайней мере за правдоподобные, потому что ни в малейшей отметке не изъявляют сомнения, а можно б было кажется усомниться, тем более что этот слух вздорный, не имеет никакого основания: вероятно, что об истинном бунте узнали бы в Петербурге официально, не чрез Константинополь. Возмущение народа не то, что возмущение в театре против дирекции, когда она дает дурной спектакль: оно отзывается во всех концах империи, сколько, впрочем, ни обширна наша Россия. И какие есть татарские князья в Грузии? Их нет, во-первых, да если бы и были: здесь что татарский князь, что немецкий граф – одно и то же: ни тот ни другой не имеют никакого голоса. Я, как очевидец и пребывая в Тифлисе уж с некоторого времени, могу вас смело уверить, что здесь не только давно уже не было и нет ничего похожего на бунт, но при твердых и мудрых мерах, принятых ныне правительством, всё так спокойно и смирно, как бы в земле, издавна уже подчиненной гражданскому благоустройству. Вместо прежнего самоуправства ныне каждый по своей тяжбе идет покорно в дом суда и расправы, и русские гражданские чиновники, сберегатели частных прав, каждого удовлетворят сообразно с правосудием. На крытых улицах базара промышленность скопляет множество людей, одних для продажи, других для покупок; иные брадатые политики, окутанные бурками, в меховых шапках, под вечер сообщают друг другу рамбавии (новости) о том, например, как недавно здешние войска в горах туда проложили себе путь, куда, конечно, из наших никто прежде не заходил. На плоских здешних кровлях красавицы выставляют перед прохожими свои нарумяненные лица, которые без того были бы гораздо красивее, и лениво греются на солнышке, нисколько не подозревая, что отцы их и мужья бунтуют в Инвалиде. В караван-сарай привозятся предметы трудолюбия, плоды роскоши, получаемые через Черное море, с которым ныне новое ближайшее открыто сообщение сквозь Имеретию. В окрестностях города виртембергские переселенцы бестревожно обстраиваются; зажиточные исчисляют, сколько веков, годов и месяцев составят время, времена и полвремени, проповедуют Ш(тиллингов) золотой Иерусалим с жемчужными вратами, недостаточные работают; дети их каждое утро являются на улицах и в домах с духовными виршами механика К***, которых никто не слушает, и с ковришками, которые все раскупают, и щедро платят себе за лакомство, им на пропитание. Вечером в порядочных домах танцуют, на саклях (террасах) звучат бубны и завывают песни, очень приятные для поющих. Между тем город приметно украшается новыми зданиями. Всё это, согласитесь, не могло бы так быть в смутное время, когда богатым татарским князьям пришло бы в голову возмущать всеобщее спокойствие.