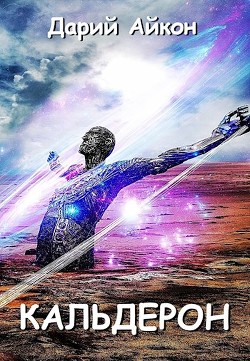винили в этом меня. Они жаловались, что у них пропал гребень или шпилька, и говорили, что это я их украла. Тут же обыскивали мои вещи и, конечно, находили пропажу в моем белье. Я твердила, что невиновна, и одна из кузин тут же начинала кричать, что я злобная врунья. Меня удивляло, как они умели плакать по заказу. Тетка Мария била меня по рукам или охаживала деревянной ложкой пониже спины. Потом она прижимала меня к своей пухлой груди, поливала слезами, целовала и говорила, как ей стыдно.
Мальчики были добрее, особенно Эрнесто. Он молча помогал мне таскать ведерко с углем и выгребать золу из топки. Зимой он показал, как обмануть счетчик, кинув в него плоскую ледышку вместо четвертака, и мы долго пользовались газом бесплатно.
Эрнесто исполнилось четырнадцать, и он продавал газеты вместе с младшим братом, маленьким Пьетро. Пьетро было всего семь, и для него главной радостью в жизни была кража яблок. Сколько бы раз мистер Финч, владелец тележки с яблоками, ни ловил его, ни притаскивал домой и ни оставался следить, чтобы тетка Мария выпорола его как следует, таскать яблоки мальчишка не переставал.
Был еще старший сын Марии, Армандо, красивый и пугающе тихий. Он трудился клерком на меховой фабрике и редко появлялся дома. Тетка Мария твердила, что это все из-за женщины, и плакала, что сын скоро ее бросит. Мама говорила ей, что взрослый мужчина и не должен жить с матерью, что это неестественно. Естественно искать себе жену.
— Я же здесь, я буду тебе помогать, — успокаивала она сестру, обнимая и целуя ее в мокрую щеку.
С теткой Марией мама нежничала. Со мной она так никогда себя не вела. Но, когда мы вдруг оставались наедине, она говорила, что это все временно, что скоро все станет лучше — хотя я ни разу не жаловалась. Несмотря на злобных девчонок, я любила здешнюю суету. Это мама казалась несчастной, не спала ночами напролет и становилась все более хрупкой, как сухая веточка, которая, того и гляди, треснет.
К зиме наши обстоятельства начали по-настоящему на ней сказываться. Я понимала это по ее глазам, дрожащим рукам, усыхающей талии. Она нашла работу в мастерской по пошиву сорочек, где работали и близняшки. Долгие рабочие дни — девять часов подряд по будням и семь по субботам — казались немыслимыми и изматывали ее. Воскресенье было единственным свободным днем, и Мария настаивала, чтобы мы всей семьей ходили в церковь. В Катоне мы никогда там не бывали. Мама с папой говорили, что до местной церкви слишком далеко, но я считала, что они просто не хотели ходить к Господу, который отнял у них всех детей. Иногда родители молились дома.
Мне казалось, что это из-за сестры мама делает вид, будто любит церковь, в то время как на самом деле ей следовало лежать в кровати и набираться сил. Я говорила ей, что могу работать вместо нее, но Мария считала, что девушки не должны поступать на работу раньше пятнадцати лет, а мама говорила, что я все равно не смогу оформить нужные бумаги до четырнадцати. То есть мне оставалось не меньше года.
В глубине души я радовалась, что мне не нужно ходить на работу. Проводить целые дни с теткой Марией было весело. Она таскала меня по Малберри-стрит, где препиралась с торговцами.
— Что это?! — кричала она, обнаружив единственный глазок на картофелине или крошечное пятнышко на яблоке. — Да как такое можно продавать! Такое даром отдают! Дурная еда должна быть бесплатной! Я же выкину половину! А значит, и заплачу только половину.
Она всегда добивалась своего, и при ее приближении торговцы начинали втягивать головы в плечи.
Тетка Мария готовила сицилийскую еду, о которой знала от матери. Мы дочиста отскребали пол, а потом раскатывали вдоль половиц длинные полосы теста для пасты и развешивали ее сушиться по стульям, пока тетка пересказывала мне всю свою жизнь. Она знала столько историй, что я не могла за всеми уследить. Но мне нравилось слушать ее ровный голос. Она учила меня тушить помидоры и печь хлеб из белой как снег муки. Он выходил мягким и упругим, совсем не таким, как грубые караваи, которые мы с мамой пекли из перемолотых зерен в своей хижине.
По вечерам семья рассаживалась вокруг стола — даже Армандо, который ухитрялся выкроить время на материнскую стряпню, — принимал участие в общей трапезе. Всем приходилось кричать, чтобы их услышали, в комнате было тепло и пахло чесноком и свежим хлебом. Мария рассказывала про мою маму и других своих сестер, про беды, через которые им пришлось пройти, про то, как постоянно зудели спины от пряжки отцовского ремня. Они исполняли итальянские песни, которых я не знала. Их пение заставляло меня вспоминать об отце: я представляла, как он сидит в нашей хижине совсем один, держит на коленях скрипку и не может понять, куда мы делись.
После ужина Эрнесто и маленький Пьетро бежали на Коламбус-серкл продавать газеты, хотя и так вставали на рассвете, чтобы начать свою торговлю. Армандо ускользал без объяснений. Мария качала головой и усаживалась за стол с мамой и кофейником свежего кофе. Взглядом мне давали понять, что я должна оставить их в покое, так что целый вечер я валялась в постели со старой скучной газетой, пока близняшки лежали на соседней кровати с украденным где-то модным журналом, хихикали и следили, чтобы я не подсмотрела их женские секреты. Я делала вид, что мне наплевать, но умирала от желания полистать блестящие страницы.
Несмотря на тревогу за маму и ежедневные козни близнецов, я была счастлива. Шумная торопливая жизнь многоквартирного дома заполнила пустое мертвое пространство внутри меня. Леса Катоны, хижина и папа стали далекими и будто ненастоящими.
А потом я повстречала Ренцо.
Начиналась весна, и во дворе уже почти растаял грязный снег. Армандо наконец съехал, и несколько недель Мария металась по квартире, рыдая и ломая руки, падая на колени, молясь и целуя крест, висевший на шее.
Однажды она поставила меня на колени рядом с собой и прижала к груди, пахнущей луком и сосновым мылом.
— Слава Господу, что вы