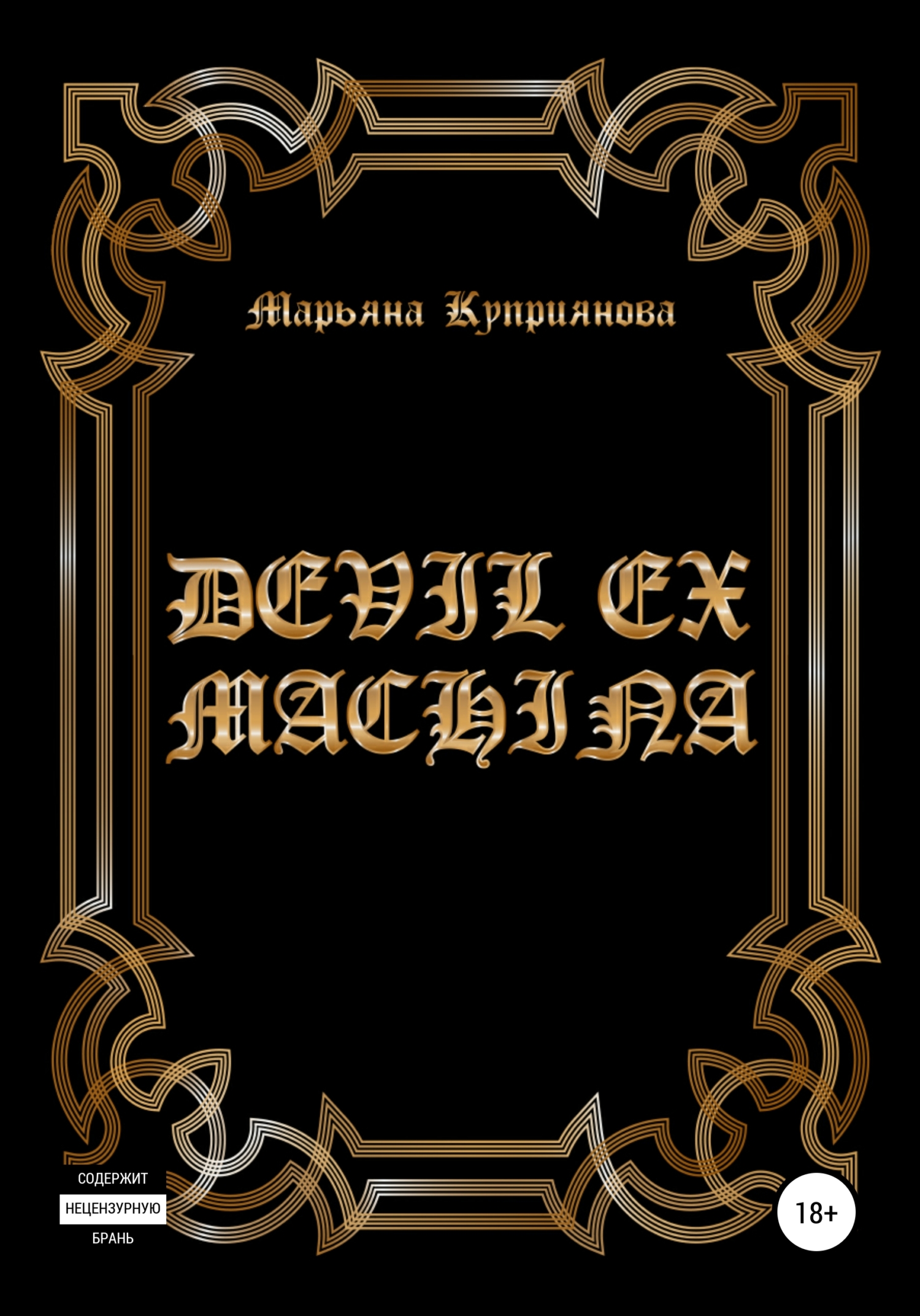По их словам, Стивенсон «очень любил вашу страну».
На могиле собрался почти весь НИИ. Прощальные речи произносили Зиненко, Южный, Пшежень и несколько младших научных сотрудников, работавших с Гектором бок о бок и хорошо его знавших. Последнее слово произнес отец, Айзек Стивенсон. Младший брат Гектора – Броуди – на протяжении всего времени оставался угрюм, замкнут, и так и не произнес ни единого слова. Он был талантливым физиком, таким же неординарным, как и его покойный брат в микробиологии.
Скорбели молча, никто не плакал и не стенал. Замолкла в безветрии и сама ясная и солнечная погода, наконец проникнувшись трагичностью момента. Взгляды людей были устремлены вникуда. Они не видели ни друг друга, ни самих себя, физически все еще пребывая здесь, на кладбище, а сознанием находясь уже где-то за пределами познанного, в высоких материях, где-то вне бытия и даже вне собственных мыслей. В общем, там, куда попадает каждый человек, стоит ему столкнуться со смертью лицом к лицу, заново понять, что есть предел у человеческой жизни, и все равны перед этим пределом.
Весь отдел вирусологии стоял чуть особняком от остальных. Пожалуй, эти люди были наиболее шокированы происходящим, если можно вообще говорить о степени шока в подобной ситуации. Особенно двое из них, первыми обнаружившие погибшего в день ЧП. Те двое, кого крепко сплотила эта трагедия, чьи судьбы, если можно так выразиться, в какой-то мере она связала.
Марина и Лев стояли рядом, плечо к плечу; он подставил ей свой локоть, и она держалась за него с тем выражением лица и с тем достоинством, будто была его законной женой не менее двадцати лет. Лев тоже выглядел уверенно и строго. Они смотрелись вместе очень экзотично, но в то же время и обыкновенно, почти привычно. Это чувство трудно было объяснить. У каждой медали две стороны.
Отношения между ними с самого момента завязки не были ни для кого секретом. Марина и Лев ничего не стали скрывать и даже не задались мыслью о необходимости умалчивания, создания некой тайны из их общего решения. Но и напрямую заявлять о себе тоже не стали. Узнав о них, Пшежень, старый мудрый человек, предугадавший исход долгой взаимной ненависти почти как Маринина тетя, лишь утвердительно кивнул головой. Он уже давненько ожидал чего-то подобного, по опыту долгой жизни зная, как крепко связывает людей взаимное негативное чувство.
Подобно Юрку Андреевичу все были рады такой неожиданной перемене, и эта радость была молчалива и искренна. Никто не задавал никаких вопросов. Как так вышло, ведь они друг друга терпеть не могли? И вдруг – бац! Как снег на голову. Конечно, кто-то и мыслил поначалу подобным образом, но большая часть научных сотрудников института быстро смирились с сенсацией, и теперь союз Горбовского и Спицыной казался им самой естественной вещью в мире. Будто так и было всегда.
Отныне Горбовский был полностью безоружен перед Мариной. У него не было от нее никаких секретов. Он делился с ней каждым своим соображением, и это неожиданно и несказанно облегчало ему жизнь.
«Прежде моя голова была слишком заполнена. Настолько, что приходилось говорить с самим собой. Мне крайне необходим был кто-то, кому я смог бы настолько довериться, чтобы выложить свои мысли безо всяких опасений и паранойи», – говорил Горбовский Марине, затем задумывался, уходил глубоко в себя, а потом внезапно широко раскрывал глаза, перехватывал и целовал ее ладонь, скупо улыбаясь. Больше всего он любил неожиданно брать в руку ее кисть и прикасаться к ней губами, на мгновения забываясь от прилива счастья, от очередного осознания: она – моя!
Сказать о том, что Горбовский ощущал себя иначе, нежели прежде, значит, промолчать о его чувствах. В нем переменилось решительно многое. Если разделить его на оболочку и содержимое, то оболочка изменилась с минуса на плюс, а содержимое, то самое великое содержимое великого человека, теперь стало видно гораздо явственнее, чем раньше. Теперь не требовалось нащупывать трещину в панцире, давить на больное, наклоняться под определенным углом, чтобы увидеть настоящего Горбовского. Он наконец-то сбросил с себя этот панцирь, усеянный иглами, рогами и шипами. И все увидели его в новом свете, все заметили, как он переменился, едва Марина вошла в его жизнь как любимая женщина.
Горбовский, наконец, обрел душевное равновесие, и весь резонировал спокойствием и жизнелюбием. Его походка, прежде механическая, угловатая, нервная, стала более размеренной и уверенной. Ему незачем было больше срывать на ком-то злость или показывать всем своим видом – не подходи ко мне. Глаза потеряли стальной оттенок, взгляд более не колол и не уязвлял. Голос перестал звучать подобно сухой деревяшке – Горбовский вкладывал в каждое слово часть своей необъятной души, которую столь долго ото всех скрывал. Он начал улыбаться, жмуриться от счастья и щуриться, когда приходилось задуматься, и даже смеяться.
Новое поведение самому Льву не казалось чем-то ненормальным. Все эти годы он знал, он помнил, что внутри него таится человек, который однажды был способен радоваться жизни. Теперь он вышел на свободу. Однако смех Горбовского ошеломлял коллег, которые никогда прежде его не слышали. Первое время они даже растерянно переглядывались, стоило Льву засмеяться – настолько это был необыкновенный звук, и им казалось, что сейчас произойдет нечто безумное, если Лев вдруг захохотал. Его смех навевал мысли о древнерусских богатырях, в которых духу было столько же, сколько в десятерых обычных мужчинах. И весь этот дух расходился вокруг него во время смеха, ни капли при этом не растрачиваясь.
Теперь паранойя не мучила его, он не опасался, что Марина предаст его, сделает ему больно… С того самого момента, как он неожиданно понял, что влюблен, с того момента, как он перехватил ее руку и поцеловал, и все между ними прояснилось, лишилось цепей и оков недопонимания, с того самого момента Марина приобрела в глазах Горбовского венец неоспоримой идеальности, несравненности, единственности. Это было настоящим чудом – в один вечер так круто переменить свое отношение к человеку, осознать, что теперь вдруг, почему-то, любишь того, кого ненавидел, никому не отдашь того, кого презирал и гнал от себя.
Потрясающее осознание нового чувства постигло их обоих, ударило в головы. Горбовский не пытался даже разобраться в сути и причинах этого процесса, ему хватало того, что он произошел и какие последствия это повлекло. Впервые он переживал столько необыкновенные чувства, и теперь его больше всего удивляло, как же он мог ненавидеть такую прекрасную девушку, как Марина? Ведь с высоты настоящего дня он ясно осознавал, как детально его все устраивает и восхищает в ней. Это, бесспорно, его женщина, и она не