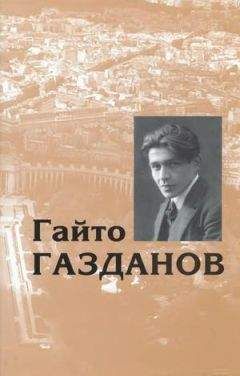На следующий вечер я был в гостях у молодой французской писательницы, которая показывала мне одну из книг Кокто в редком издании с трогательной надписью – и которая говорила мне о романтическом восприятии всего, что она знала, читала и видела: и в неизменно декоративных ее представлениях появлялись и проходили то мертвые волны Красного моря, то классические пейзажи Греции, где умирал Байрон, то заснувшая тишина ночной Севильи, то цветущие долины Богемии. Я слушал и вспоминал ночных обитателей рынков и думал о том, как бесплодно я прожил на свете и как все мои ничтожные и случайные знания настолько малы и бесполезны, что я не могу извлечь из них ни одной успокоительной мысли, ни одного чувства, которое хоть на время усыпило бы меня и дало бы мне иллюзию простой и верной жизни – с точными правилами о том, как надо действовать и что надо думать. Я хотел ей сказать, что смерть Байрона прекрасна, что его жизнь интереснее его стихов; но глаза толстой женщины с Севастопольского бульвара еще несравненно прекраснее и в некотором смысле нужнее, чем мертвое великолепие английского поэта. Но я ничего не сказал, я смотрел перед собой и видел, как все взвивалось в воздухе и исчезало и из пустоты не появлялся никто. И со всей силой желания, на которую я был способен, я хотел увидеть возникающие в воображаемом пространстве, поглощавшем сейчас мое зрение, – романтические призраки, являвшиеся мне раньше, – но вместо этого передо мной был низкий диван, книга Кокто, лампа с синим абажуром – и эта женская голова с детским лицом и белыми волосами, похожими на прекрасную и легкую пену.
И вот эта ночная жизнь мало-помалу стала для меня совершенно привычной, заменила мне прежнее, дневное существование, и через некоторое время я всецело погрузился в нее. В ней было нечто искусственное и ненастоящее, и все, что происходило, совершалось в ином воздухе и воспринималось иначе, чем если бы это случалось днем, – да я думаю, что, пожалуй, днем это вообще не могло бы случиться. Я приписывал это сначала своим собственным измененным представлениям, но потом стал думать, что ночью вообще люди живут не так, как днем, они находятся в полупрозрачном забвении, бессознательном, но несомненном, и говорят о вещах, о которых молчали бы днем – точно опьянев от неизвестных и незримых паров разлитого в воздухе, почти ядовитого напитка. И так же, как на пароходе, в открытом море люди совершают несвойственные им поступки и говорят то, что не могло бы быть сказано, если бы не было синеватой воды и неба и если бы тяжелая земля не была уже далека – так и здесь, в этой длительной ночи были иные законы, иные слова; неправильные поступки, неверные воспоминания и обманчивые представления о том, чего, может быть, даже не существует вовсе. Я знаю, что все случившееся в те времена, вся история Великого музыканта и обстоятельства, сопровождавшие ее, не могли произойти утром или после обеда – это были ночные вещи, скорее похожие на ошибки воображения, чем на действительность, – или на воспоминания, видоизменяющие все и придающие ему ту определенную окраску и тот вид, которых оно не могло иметь на самом деле.
Правда, и в этой жизни были люди, случайно попавшие сюда из дневного света и потому казавшиеся особенно неуместными. Одним из них был некий m-r Энжель; мне пришлось совершенно неожиданно для себя познакомиться с ним в ночном кафе, в котором я постоянно бывал и которое было как бы островом в ночном море – таким оно казалось мне тогда. Это было большое кафе, отделка которого, будучи, строго говоря, лишенной очень определенного стиля, все же не походила ни на что другое, и отличность ее от других отделок объяснялась – как я это заметил потом – обилием прямых линий и острых углов и еще тем, что громадные лампы потолков были устроены в форме нескольких параллельных плоскостей из матового стекла; и в том случае, когда эти плоскости образовывали с потолком характерные для кафе острые углы, – они походили на несколько крыльев, и направление их было почти таким же наклонным, какими бывают первые движения птиц, поднимающихся с земли. У меня это вызывало странную зрительную иллюзию – и фантастическая убедительность этих линий была такова, что они производили впечатление только что прекратившегося движения; казалось, что, если бы я вошел на минуту раньше, я бы увидел эти лампы летящими по воздуху и еще не ставшими неподвижными. Может быть, впрочем, это представлялось мне так еще и потому, что образ существа со множеством крыльев сильнее пленял мою фантазию, чем ее пленило бы какое-нибудь совершенное, но реальное изображение; с некоторого времени самые прекрасные вещи, самые убедительные в своей точности стали мне казаться почти отталкивающими, так как приводили меня к одним и тем же тягостным мыслям обо всем том, что я назвал бы наивно-гармоническим видением мира.
Я не сразу отдал себе отчет в том, как устроено это кафе, так как долгое время главное мое внимание было поглощено железной музыкой невидимого звукового аппарата, ни на минуту не прекращавшейся. Он играл самые разные вещи, и переходы от одних к другим походили то на тяжелые воздушные перебои, то на ту неопределенную, лишенную резко мелодического характера музыку, которую я слышал всякий раз, когда силился вспомнить мотив, которого я не знал наизусть, но который был мне все-таки знаком. Звуки этого аппарата, не казавшиеся мне вначале замечательными, создавали, тем не менее, совершенно особенную атмосферу кафе, в которой лица начинали казаться матовыми, движения – плавными и самые невероятные вещи – естественными; и иногда все погружалось в гулкое оцепенение – и только время от времени разрезалось извне точно освещавшими все на секунду, вспыхивающими, как свет прожектора издалека, резкими гудками автомобилей, доносившимися с улицы.
Впервые я обратил внимание на m-r Энжеля потому, что прислуга обращалась с ним чрезвычайно почтительно и бережно, метрдотель подолгу не отходил от его столика и весь вообще m-r Энжель был окружен необычайным и чуть ли не физически осязаемым почетом – и надо сказать, что внешний его вид должен был внушать доверие – он был прекрасно одет. Мr Энжель носил с собой пять платков – один для протирания монокля, – под которым его глаз приобретал, впрочем, иногда, как мне казалось, почти страдальческое выражение, совершенно несвойственное m-r Энжелю, – один на всякий случай, два – в карманах брюк и еще один – в качестве pochette[38]. Кроме этого, у m-r Энжеля были трость, театральный бинокль, перчатки, спички в серебряной коробке, зажигалка, портсигар, два мундштука – один для папирос, второй для сигар, – трубка, какой-то особенный предмет, похожий на небольшой молоток, – для набивания трубки, – зубочистка в золотой оправе, часы на руке, хронометр в жилетном кармане – удивительный хронометр, указывающий часы, минуты, секунды, месяцы, дни и года и только что не предсказывающий погоду, – портмоне, бумажник, серия шелковых футляров – для мундштуков и перочинного ножа, который открывался со всех сторон и во всех направлениях и мог служить чем угодно – от охотничьего кинжала до напильника для ногтей и ножниц различных размеров. И наконец, во внутреннем кармане пиджака у m-r Энжеля находился большой и продолговатый футляр, несколько походивший на колчан для стрел – и в котором m-r Энжель держал два stylo[39] и три карандаша. Я сначала не знал, что m-r Энжель – сенатор и бывший министр; я не узнал его – потому что часто видел его портреты в газетах, совершенно не похожие на него и изображавшие его лицо с непостижимой неправильностью. Я познакомился с m-r Энжелем через Алексея Андреевича Шувалова, с которым тогда встречался почти каждый вечер: m-r Энжель приходил в это кафе именно для того, чтобы поговорить с людьми, находящимися вне обычного круга его отношений, ограниченного крупными промышленниками, известными адвокатами и политическими деятелями, не считая артисток, балерин и певиц, встречи с которыми носили частный характер, как это говорил сам m-r Энжель.
Самой поразительной и совершенно необъяснимой мне казалась большая слава, которой пользовался m-r Энжель, считавшийся одновременно и украшением адвокатского сословия, и гордостью парламентаризма, и носителем ясности и проницательности ума и многих других качеств. Сколь ни сомнительна была ценность этих качеств сама по себе – в том смысле, в каком ее понимали люди, писавшие о m-r Энжеле, – ни одно из них просто не было доступно для m-r Энжеля; помимо отсутствия в нем каких бы то ни было дарований, он находился на той первоначальной ступени культуры, когда сложные понятия еще неизвестны человеку – как непонятны тригонометрические формулы тому, кто знает только четыре правила арифметики. Но m-r Энжелю была свойственна особенная и наивная радость по поводу того, что он ощущал для абстрактного мышления, понятие о котором было у m-r Энжеля весьма своеобразным: всякая высказываемая им мысль, не касавшаяся самых непосредственных вещей и потому носившая непривычный и даже несколько тревожный характер, казалась ему преодолением какой-то новой философской сущности. Мr Энжель говорил чаще всего общими местами – но это не казалось бесцветным; в то время как другие, более его культурные люди всегда несколько стеснялись, повторяя давно известные истины, и сопровождали их извинительными комментариями, – m-r Энжель высказывал их с громадным пафосом – и суждение, например, о том, что государство должно быть расчетливым, – искренне считал своим собственным достижением, и выходило так, что без него, m-r Энжеля, мир ничего не знал бы об этом. Чудовищная невежественность m-r Энжеля, имевшего крайне смутные сведения даже в той области, которая составляла предмет его деятельности – политике, – только способствовала развитию этого безобидного самодовольства, настолько свойственного m-r Энжелю, что его нельзя было себе представить лишенным этого состояния. Меня поразил первый же разговор m-r Энжеля, который мне пришлось услышать.