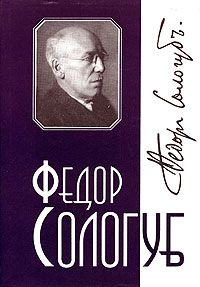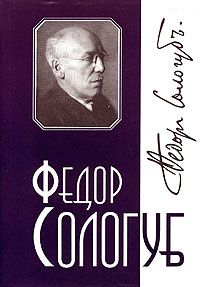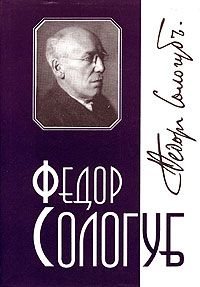Она порывисто встала, вернулась в комнату, подошла к образу, стала на колени, молилась долго. Теплота и свет разливались в ее теле, – зажглись в ее душе. И беспредельна была умилительная глубина того света, и восхищенная душа вся занялась восторгом. Объятая восторгом и умилением упоенная, она склонилась и лежала долго, забыв обо всем. Потом какие-то шумы и крики донеслись до нее, разбудили ее. Она встала, прислушалась, – опять стало тихо. Но в ее душе стало тревожно. Захотелось пойти к матери, и вдруг стыдно стало. Подумала: «Лучше к маме потом. Сейчас придет Яков Степанович. А может быть, мама и сама придет».
Милочка открыла лежащую на ее письменном столе одну из книг Григория Нисского и прочла несколько страниц из беседы «О совершенстве». Опять совесть подняла в ее душе скорбный, укоряющий голос. Но вот стукнули в дверь, и на торопливо-радостное: «Войдите!» – вошел Яков Степанович. Он приходил иногда к Милочке, чтобы поговорить на религиозные темы, иногда же в своих разговорах случаи дня они пытались озарить светом немеркнущей истины, незаходящего солнца. Иногда в этих разговорах участвовала и Любовь Николаевна.
49
Обед прошел скучно и неприятно. Милочки не было, – сказали, что у нее болит голова. Не было и профессора Абакумова, – он еще раньше предупредил, что будет обедать на пароходе, который должен отойти из города в восемь часов вечера и с которым уезжал в Нижний старый приятель профессора, здешний присяжный поверенный Угрюмов; с этим пароходом профессор доедет до дачной пристани, откуда к пароходу пошлют за ним лодку. Любовь Николаевна была явно расстроена и неразговорчива. Елизавета сидела со злым лицом. Николай дулся. Шубников один спасал положение и рассказывал всякий вздор притворно-развязным тоном, обращаясь преимущественно к Горелову. После обеда дамы немедленно ушли, даже не заботясь о том, чтобы скрыть, затушевать свою поспешность.
Из-за Волги повеял шумный и влажный ветер. Дождь переплетенными струйками бежал по стеклам в окнах кабинета Горелова. После обеда мужчины одни сидели в этом кабинете, пили кофе и ликеры и курили сигары. Башаров сухим, неприятным голосом принялся жаловаться на Милочку:
– Я должен тебе, Иван, рассказать кое-что, – начал он. – Собственно говоря, следовало бы рассказать это тебе наедине. Но и Николай, и Андрей Федорович, к сожалению, присутствовали при той дикой сцене, о которой рассказала мне перед обедом Лиза. Они оба даже лучше меня могут рассказать об этом, – меня там не было, я знаю только по рассказу. Вот вы, Андрей Федорович, может быть, будете любезны рассказать как свидетель происшедшего.
Шубников молчал, и на лице его было недовольное выражение. Конечно, хорошо, что он там был, – это теперь дает ему возможность не уходить от дорогих сигар и от тонких ликеров. Но рассказывать ему положительно не хотелось. Как ни рассказывай, это может не понравиться или Горелову, или Башарову. И то и другое ему весьма не улыбалось. А Горелов, с любопытством глядя на него, торопил:
– Ну, ну, говорите, Андрей Федорович! В чем дело?
От дождя в комнате было полутемно, еще никто не догадался повернуть выключатели электрических ламп, и Шубников был рад тому, что Горелов не видит отчетливо выражение его лица. Взглянув значительно и остро на Николая, он неохотно сказал:
– Я не совсем разобрал, из-за чего это произошло. Думка заспорила с Елизаветою Павловною, кажется, была недостаточно почтительна, Елизавета Павловна рассердилась, Людмила Ивановна заступилась за Думку, вот, кажется, это и вся причина ссоры.
Башаров воскликнул с негодованием:
– Ссоры! Это вы называете ссорою! Очень мило! Нет, это – не ссора, это – черт знает, что такое!
И он принялся рассказывать сам, преувеличивая и обостряя и без того преувеличенный и злобный Елизаветин рассказ. Но эти чрезмерности явно пристрастного пересказа только веселили Горелова. Он громко хохотал и кричал:
– Узнаю Милочку! Это вполне в ее стиле и в ее манере! Вот так катавасия!
Башаров обиделся. Сухо сказал:
– Позволь тебе сказать, что этот стиль и эта манера очень неудобны, и я убедительно прошу тебя принять меры к тому, чтобы такие странные эксцессы не повторялись.
Горелов торопливо заговорил:
– Ну конечно, конечно, Милочка получит должное внушение, и я уверен, что этого больше не будет. Но из-за чего же, однако, все это произошло? Ты знаешь, Николай, что случилось? Что их обеих так рассердило?
Николай сделал значительное выражение лица и сказал внушительно:
– Это – очень сложная и щекотливая история. Рассказывать ее так, за рюмкою ликеру, мне не хочется. Когда-нибудь, потом, я тебе все расскажу.
– Может быть, я мешаю? – с достоинством спросил Башаров, опираясь обеими руками о локотники кресел, словно собирался вставать.
Горелов опять захохотал. Сказал брату:
– Придумал тоже! Просто Николай стесняется рассказывать, из-за чего он с Думкою сцепился. Хочет сначала придумать какую-нибудь благовидную историю, да пока фантазии не хватает.
Николай принял было обиженный вид, но скоро улыбнулся самодовольно, утешенный сознанием великой тайны, которую он в себе носит и которая, по его нелепому расчету, должна дать ему немалые и верные деньги. Однако настроение было вконец испорчено. Не помогли и зажженные наконец кем-то в кабинете яркие электрические лампочки. Первый поднялся уходить Шубников. Он отвел Горелова в сторону и что-то очень тихо сказал ему. Лицо Горелова радостно засияло. Он весело говорил, горячо пожимая руку Шубникову:
– Ну вот спасибо! Уж я знал, что вам можно довериться.
Шубников сделал ему еле заметный знак и повел глазами на Николая. Горелов замолчал. Но Николай ничего не слышал и не замечал. Он сидел, глубоко развалившись в кресле, погруженный в глубокую задумчивость, и, глядя со стороны, можно было подумать, что он сладко дремлет, упившись ликерами неосторожно.
50
Отец и сын остались одни. Николай встрепенулся, словно ожил, поднял голову и совсем трезвым и значительным тоном сказал:
– Папа, мне надо серьезно поговорить с тобою.
– Говори, – спокойно, немного даже вяло отвечал Горелов.
У него на столе лежали счета и другие бумаги, которые надобно было просмотреть, сообразить, решить по ним кое-что. А всего охотнее теперь он бы полежал на диване, отложивши дела на завтра, лениво перелистывая книгу, какая ни попадется, – роман, недавно вышедший, или научно-техническое сочинение с формулами и с чертежами, – и сладостно мечтая о лесной босоногой красавице, заклинательнице змей, гордой, дерзкой, милой и желанной. Но, когда имеешь семью, то это обязывает. Раз что сын обращается к отцу, необходимо его выслушать. Раз что на дочь жалуются, надобно ее призвать и поговорить с нею.
Горелов подошел к окну и смотрел на мокрые после отшумевшего дождя деревья сада, которые были слабо и смутно-розово освещены янтарною и фиолетовою зарею, омытою пронесшимися тучами и неспешно отгорающею за лиловостью разорванных туч. Смотрел и ждал, что скажет Николай. Но Николай молчал. Молчал так долго, что у Горелова в глазах завертелись три красные круглые рожи с фиолетовыми глазами и синими губами. Горелов отошел от окна, сел поудобнее на диван, закурил сигару. Сказал:
– Я тебя слушаю, Николай. Говори.
Николай начал нерешительно:
– Видишь, в чем дело, отец, – мне надо денег, тысячи две-три.
Горелов засмеялся. Спросил:
– А на что? Табачную лавочку открыть хочешь?
– Ну зачем же лавочку! – обидчиво отвечал Николай. – Мне нужно денег на некоторые неотложные расходы.
– А на что именно? Можно спросить, не секрет? – спрашивал Горелов, посмеиваясь.
Он чувствовал себя хорошо, тепло и удобно, а потому ровно и весело. Только иногда сердце слегка замирало, – это, думал Горелов, от шерри-бренди, – но и это ему нравилось, это жуткое ощущение в груди, и только располагало к тому, чтобы прилечь спокойно, вытянуть ноги, не делать резких движений и улыбчиво прислушиваться к осторожному на краткие миги приостанавливанию сердца, все еще жадного до земных страстей и волнений.
– В том-то и дело, что секрет, – отвечал Николай.
Горелов, осторожно шутя, сказал:
– Ну, мой друг, я, как тебе известно, суеверен и на неизвестное назначение боюсь отпускать суммы, тем более крупные.
Николай сказал досадливо:
– Для тебя это вовсе не крупная сумма, а мне она очень нужна. И я прошу ее у тебя совсем не даром. Если ты дашь мне эти деньги, я тебе продам кое-что.
Горелов лежал неподвижно и слушал спокойно, но что-то в тоне Николая не нравилось ему. Он спросил, слегка хмурясь:
– Что ты мне можешь продать?
– Кое-какие сведения, – отвечал Николай многозначительным, по его мнению, тоном.
– Что за ерунда! – спокойно возразил Горелов. – Никаких сведений мне от тебя не нужно, особенно платных, и никаких денег я тебе не дам. Ты получаешь от меня совершенно достаточно. Кажется, ветра нет? Сделай одолжение, открой окно, – нет, не это, крайнее, там, у двери.