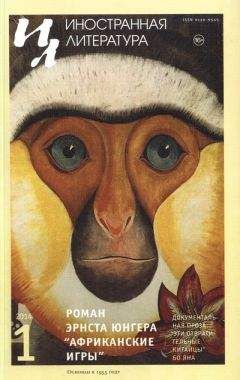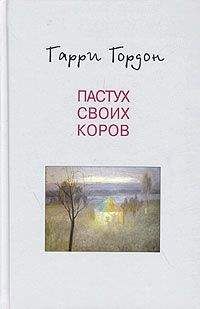id="id97">— Небось белишься? — решила работница-дунбэйка. — В наших краях пудра японская была, пудра так пудра! На любое лицо положи — кожа делается белая, нежная. Когда япошки капитулировали, этой пудрой все улицы были завалены.
Тацуру уже не слышала, о чем они говорят. Только сейчас у нее получилось собрать вместе слова южанки и построить из них предложение. А когда сгрузила камни в вагонетку, поняла, что значили эти состроенные вместе южные слова. Ее хотят познакомить с лысым мужчиной за тридцать. Из химико-технологического института. Любит красивых женщин. Беленьких и холеных. Как она, Тацуру.
Все хотят ее, Тацуру, выдать замуж, и Чжан Цзянь, и Сяохуань тоже. Если бы она могла расстаться с детьми, если бы могла придумать правдивую историю про свое прошлое, ее бы давно уже кому-нибудь сосватали.
Четыре месяца назад она стояла в вязовой рощице за клубом и смотрела, как Чжан Цзяня уводят. Когда снова встретилась с ним, поняла, что теперь все переменилось, снаружи осталось как прежде, а там, внутри — переменилось. В тот день он переходил с ночной смены на дневную и с утра до вечера был свободен. Раньше он этот свободный день и на жизнь не променял бы, увез бы Тацуру далеко-далеко, дальше, чем тот берег, где бросил когда-то. Но теперь Чжан Цзянь вернулся со смены и сразу лег спать. Она не слышала даже, чтоб он выходил в туалет или наливал воду помыть ноги. С восьми утра проспал до шести вечера. Тацуру как раз посадила сыновей ужинать и увидела, как он выходит из большой комнаты, весь опухший и помятый со сна. Волоча ноги, прошлепал в туалет. Ее словно не заметил, и когда сыновья его позвали, даже ухом не повел. Вышел из туалета, дети снова его окликнули, и он обернулся, привалившись к дверному проему. Чжан Цзяня будто сонный паралич разбил, он походил на груду грязи, которую поставили прямо: не держись он за дверь — тут же упал бы.
Тацуру его окликнула. Она звала его по-своему: «Эрхэ». Как научилась тогда, десять с лишним лет назад, так и звала: «Эхэй, Эхэ, Эрхэ». Сяохуань пробовала ее переучить, но в конце концов рассмеялась: «Ладно, Эрхэ так Эрхэ». Тацуру знала, что получается у нее неправильно, поэтому старалась реже звать Эрхая по имени, а если позвала, значит, ей ничего больше не остается, значит, она в отчаянии.
Грудой грязи он привалился к косяку, над бровями собралась гармошка морщин:
— Я страшно устал.
Она испуганно смотрела на него. Его наказали? Как наказали? В его глазах столько боли. В этот миг щелкнул дверной замок, и вошла Сяохуань, внесла три порции каши и пампушек из смесовой муки — купила в столовой. От работы в столовой, так ее растак, пользы никакой, разве что с порцией сам себя не обидишь. Сяохуань в сердцах ворчала: это, мать их, разве баклажаны? Каждый баклажан словно восемь месяцев беременным отходил, мешок с семенами, а не баклажан! У Сяохуань все по-прежнему: столовая еле сводит концы с концами, а она насмехается. Ничего словно и не изменилось, Чжан Цзянь вернулся в большую комнату и снова лег спать.
Прошла еще неделя, Чжан Цзянь по-прежнему много спал, словно хотел как следует отоспать все силы, истраченные на свиданиях. Иногда он заговаривал с ней: «Дахай проглот, пять лет, а за раз уминает пару пампушек по два ляна!» Или: «Эрхай опять писал с балкона? Снизу сейчас ругались!» Или: «Мне спецовку не гладь! На заводе и лазить везде приходится, и садиться где попало, тут же помнется».
Тацуру не сводила с него глаз. Он притворялся, что ничего не понимает, что не видит, как много слов скрыто в ее взгляде: «Что ты думаешь делать дальше? Ты разве не говорил, что любишь меня? Ты увел мое сердце, сам вернулся, а сердце мое одичало, его теперь в такой тесноте не запрешь».
Он больше не звал ее на свидания. А когда она делала знаки, притворялся, что не видит. Она хотела, чтобы он объяснил ей все с глазу на глаз: что ему сделали на заводе? Сяохуань знает? Теперь так и будет, как раньше, непонятно, мутно, словно он едва знаком с Тацуру?
Весна в этом году наступила рано, поля вокруг каменоломни уже зазеленели. Тацуру сидела среди галдящих соседок, слушая, как они подбирают ей жениха или выспрашивают секреты красивой кожи. Каждый раз до нее доходило, о чем говорят эти женщины, только много после того, как они замолкали. Когда Тацуру сообразила, что одна из соседок рассуждает о белилах, та была уже совсем близко. Когда поняла, зачем она подошла, было поздно: женщина протянула руку, потерла ее щеку пальцем и поднесла палец к глазам. Только тут Тацуру догадалась, что соседки держали спор, есть у нее белила на коже или нет, поэтому одна из них подошла и тронула пальцем ее щеку, чтобы проверить.
Тацуру уставилась на эту толпу — все женщины за тридцать.
А соседки набросились с упреками на озорницу, которая трогала Тацурину щеку. Упреки были ненастоящими, соседки все равно были на стороне той женщины, только посмеивались: мол, видишь, что человек скромный, и уже распоясалась!
— Ай-о, нежная какая! Не верите — подите да сами посмотрите, какая у Чжу Дохэ кожа! — ответила женщина.
Все стали спрашивать у Тацуру разрешения ее потрогать. Она подумала: нет, это уж чересчур, они не станут. А женщины уже подошли, протягивая руки. Тацуру видела, как их рты что-то говорят, что-то хорошее. Она тоже дотронулась до своей щеки там, где терли их руки. Когда она отошла, все заговорили: все-таки странная Чжу Дохэ, спрашиваешь ее — можно потрогать, а она стоит, такая вежливая, учтивая, и слова против не скажет.
Тацуру первой забралась в грузовик, который вез их домой, в жилой квартал. Из-за выходки соседок она почувствовала себя совсем одиноко. На ней была такая же соломенная шляпа, как у всех, тоже старая, поношенная, целый год ее трепал ветер и жарило солнце. И брезентовая спецовка у нее тоже была как у всех — соседкам они доставались от мужей, поэтому сидели мешком. Но эти женщины все равно всегда будут видеть, что Тацуру другая.
Грузовик тронулся. На каждой кочке и выбоине он швырял Тацуру к остальным женщинам, тесно прижимая к ним, словно к близким подругам, но она чувствовала, как их тела отторгают ее тело. До любви с Чжан Цзянем она бы никогда не подумала. что захочет влиться в круг китайцев, захочет, чтобы китайцы считали ее своей.