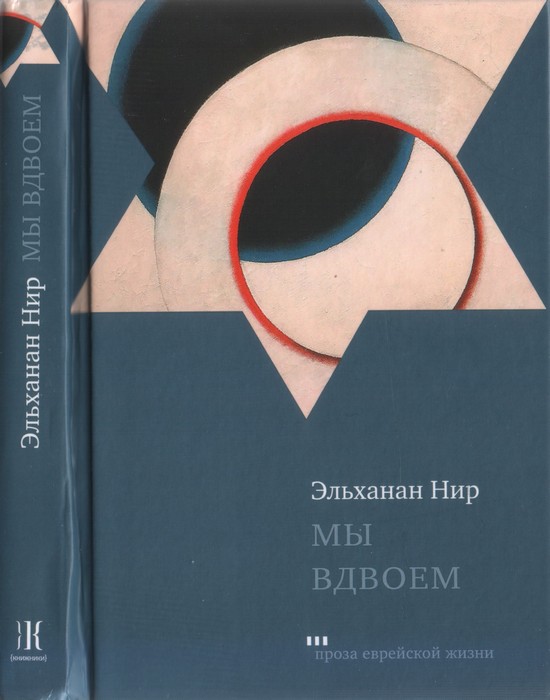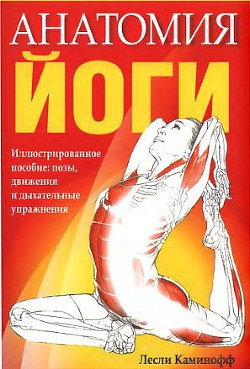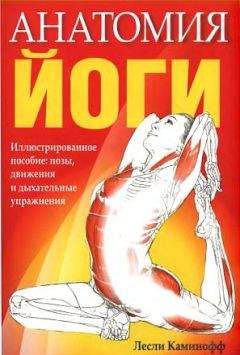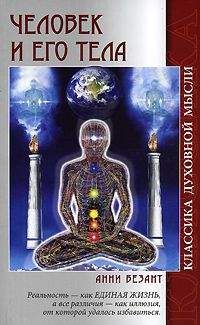обилия вопросов почти не успевал заниматься — а ведь этот странный этап скоро закончится, и он вернется к своей жизни, к Алисе с Идо, к «нормальности», к которой он пришел благодаря Алисе. Но как так вышло, что он ей больше не звонит, не просит послать фотографии Идо, как может быть, что он не интересуется членами своей семьи, как солдат-резервист на отдаленной базе?
В глубине души он знал, что грядет предложение преподавать в ешиве, и сам себя предупредил: я приехал только на несколько дней, прийти в себя, я не собираюсь здесь оставаться на всю жизнь. Когда меня начнут всерьез просить преподавать, это будет знаком, что пора возвращаться. Но он по-прежнему так и не мог сам себе объяснить, что именно овладело им на обрезании в синагоге Шаарей-Ора, какой дибук [195] заговорил его голосом, и почему он сейчас не с Алисой и не с малышом Идо, и что она о нем думает, помнит ли его заслуги, а не только провинности.
Йонатан перестал приезжать в квартиру на улице Йордей-ѓа-Сира, нашел брошенный, ветхий матрас на узкой лестнице, ведущей на крышу, и отнес его на второй этаж здания ешивы, который по субботам служил женским отделением для юных девушек, собиравшихся там как ради молитвы, так и ради возможности изредка бросать взгляды на истово молящихся внизу юношей. Каждый вечер, когда глаза его тяжелели от усталости, он растягивался на матрасе и давал себе несколько часов поспать. На рассвете просыпался, молился, поспешно готовил уроки для Бецалели и торопился на велосипеде, чтобы не опоздать в класс. Он успевал купить в киоске напротив входа в Бецалели бутерброд с омлетом и зеленью, быстро его съедал в учительской и входил в класс так, будто он не учитель, а они — не слушатели, словно перед ним сидит безликая группа, и некто, лишенный лица и имени, говорит его голосом, движет его дрожащими руками, шаркает его ногами от стула к доске и обратно.
Обед он пропускал, а вечером шел на ближайший бульвар, покупал порцию фалафеля, без энтузиазма проглатывал его, раздумывал, позвонить ли Алисе, набирал ее номер и немедленно сбрасывал. И вот он во дворе ешивы, опирается о светло-коричневую мраморную стену, впитывает звуки, доносящиеся из бейт мидраша, и его, словно волной, выносит на улицу, и вот еще мгновение, одно лишь мгновение, он позвонит, попросит прощения, спросит, готова ли она, чтобы он вернулся, и она скажет «конечно», и ее голос ласково окутает его. Затем она поспешит опомниться, к ней вернется деловитый серьезный тон, и она скажет: «Йонатан, если ты сюда приедешь, мне будет проще собраться и вместе с тобой вернуться в наш дом».
Йонатан знал, что скучает и что боится ей об этом сказать, ведь как можно сказать «скучаю» после того, как сбежал? А как же обещание Анат, что если он будет заниматься, то все станет ясно? А как же стих «отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня» [196], если он брошен в яму и нет каравана, который бы спустил ему лестницу и спас его? [197]
18
В тот вечер Йонатан закончил изучать главу «Глухой, что женился» в трактате «Йевамот» [198] и уже приступил к главе «Женщина в мирное время». «Женщина отправляется с мужем в царство за морем, — напевно читал он, — если был мир между ними и мир в мире, и она говорит, что муж ее умер, ее свидетельству можно доверять, и ее разрешено взять в жены. Но если был между ними раздор, нельзя ей доверять». Ему казалось, что слова «мир в мире» и «мир между ними» делают ему круглые глаза и холодно, цинично улыбаются, жгут его с обидной точностью — и хотел спрятаться от них, как от внезапного града, который застает тебя без предупреждения и без зонта, одетого еще по-летнему.
Он хотел пойти спать, но заметил, что в передней части бейт мидраша еще сидят двое учеников, громко обсуждающие фрагмент текста.
— Раздор, — сказал сидящий справа, на чьих щеках только-только пробивался едва заметный пушок. — Раздор порождает недоверие, поэтому не верят женщине, которая говорит, что ее муж умер. Ведь у нее здесь есть корыстный интерес.
— Это замкнутый круг, — отвечал сидящий слева, страшно усталый на вид. — Недоверие приводит к раздору, которое приводит к недоверию, и непонятно, как выйти из этого круга и как возвратить доверие.
Их речи поразили Йонатана. Обычно суждения здешних студентов были ограниченны, они довольствовались попытками понять, что написано, что говорится в Тосафот, что сказано у Рамбама, — не более того, без такого полета мысли, как у этих двоих. Ему хотелось остаться и послушать, что они будут обсуждать дальше, но от усталости его клонило в сон.
Он собирался дождаться ухода этих двух и только тогда отправиться на незаконный матрас, еженощно ожидающий его на лестнице на крышу ешивы. В любом физическом действии, производимом прилюдно, есть нечто постыдное. Стыдно спать, когда тебя видят, есть вблизи других. Но эта хаврута все не прекращала ретивых и громких занятий, и тот, что слева, даже сходил умыться и вернулся почти бодрым. И в Йонатане вдруг что-то надломилось и начало рушиться. Вдруг, без причины, к глазам подступили слезы, он пытался остановить их, но безуспешно — они полились рекой.
И тут — звонок от Мики.
— Ты где, брат? — взлетел его голос.
— В ешиве, — хрипло ответил Йонатан.
— Ты с ума сошел? Я думал, вся эта история с твоим побегом — шутка. Не могу поверить, что это правда. У тебя есть младенец, и ты не с ним. У тебя есть жена, и ты не с ней. Что с тобой происходит?
— Не знаю, — ответил Йонатан. — Не знаю.
— А как же Алиса? Ты не скучаешь? — возмутился Мика.
— Конечно, скучаю, но у меня нет выбора. Поверь, нет выбора.
— Ты псих, Йонатан, точно тебе говорю. Так нельзя. Немедленно бери сумку и возвращайся к Алисе с Идо. Прямо сейчас, — властные интонации придали его голосу убедительности, но веки Йонатана смыкались от усталости.
Мика позвонил Алисе. Было за полночь. Он ее разбудил. Он сказал:
— Алиса, это я,