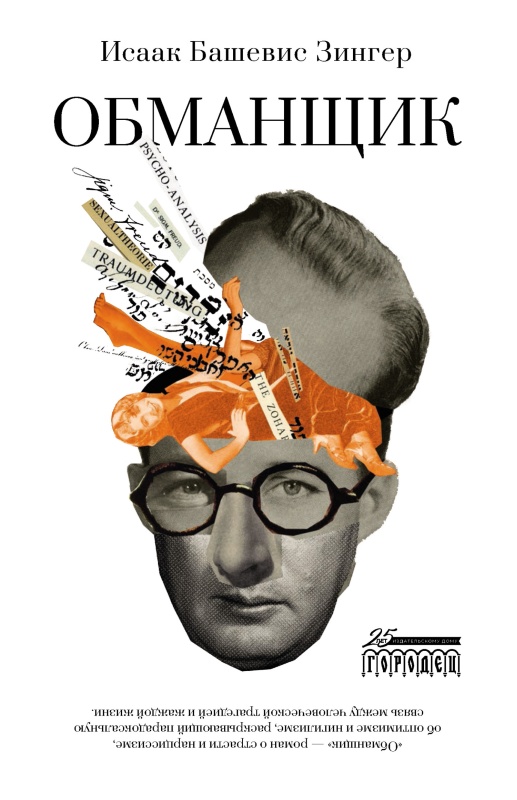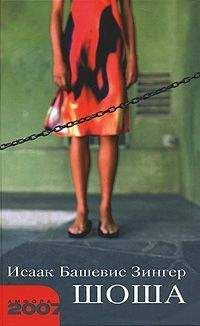что, передумал? Помирился с женой? Спутался с другой женщиной? Да, с Герцем Минскером жди чего угодно.
Она злилась не столько на Герца, сколько на себя. Снова и снова твердила себе: «Я заслуживаю наказания, заслуживаю всего, что со мной происходит». Попробовала сочинить стихотворение, но застряла на втором же слове первой строфы. Еще раз позвонила Герцу, опять безуспешно.
«Господи Боже, до чего длинный день!» – сказала она себе. Ее вдруг потянуло в сон, навалилась усталость. Она смотрела на входящих и выходящих людей. Счастливым никто из них не казался. Лица у всех озабоченные, глаза печальные. Время от времени входил солдат или матрос. За столиком через проход сидел старик. Кривился и пыхтел сигарой. Ронял в пепельницу кучки пепла. Газету, что лежала перед ним, он не читал, исподлобья поглядывал по сторонам. Временами смотрел на Минну. После долгих колебаний Минна приняла решение: она подождет еще пятнадцать минут и, если Герц не появится, пойдет домой. Физически вышвырнуть ее Моррис не может. Как бы то ни было, в Америке дом оставался за женой, съезжал муж. Ладно, Герц подлый обманщик, негодяй, а вдобавок сумасшедший. Так ведет себя только тот, кто совсем рехнулся. Ровно через пятнадцать минут Минна встала. Старик насмешливо покосился на нее. Из кафетерия она прошла на трамвайную остановку. Ее снедало ощущение тихой печали, какое испытываешь, когда только что увезли прочь безжизненное тело любимого.
«Я все потеряла, – сказала она себе. – И готова умереть».
Впервые на ее памяти мысль о смерти не огорчила ее, и собственное безразличие удивило Минну и даже немного испугало.
Неподалеку от дома она вышла из трамвая, и тот же швейцар, что утром так весело улыбался ей и кивал, сейчас казался усталым, подавленным, посеревшим. Форма грязная, потная. Минна поздоровалась, а он только кивнул в ответ. Поднимаясь на лифте, Минна молча молилась, чтобы дверь была не заперта, чтобы Моррис не успел поменять замок. Но дверь открылась. Выходящее на запад окно сияло светом, но в задних комнатах уже царил легкий сумрак.
«Живой я отсюда не выйду! – решила Минна. – Разве что меня вынесут». Квартира вдруг показалась ей просто бесценной. Как же здесь тихо!
Она прошла в свою комнату, где стояли диван, туалетный столик, книжный шкаф и письменный стол. На столе – незаконченное стихотворение. Полное аллюзий на ее любовь к Герцу. Минна скомкала его в кулаке, швырнула в корзину. «С ним все кончено! Даже если он сейчас позвонит и найдет себе оправдание, это уже ничего не значит! Нынешний день я ему до могилы не прощу».
Минна легла на диван, скинула туфли. Лежала, ни о чем не думая, сломленная женщина, утратившая всякую надежду. Обычно телефон звонил то и дело, но сейчас молчал. Комната погружалась в темноту. Квадрат неба в окне набирал синевы, наливался сумраком. Половина окон квартиры выходила на Бродвей, половина – во двор. Откуда-то долетали приглушенное пение и голоса из радиоприемника. Потом вдруг кто-то вскрикнул – не то женщина, не то ребенок. «Покой – вот все, что требуется человеку, – сказала себе Минна, – счастливы усопшие!»
Она задремала, и ей привиделось, будто она в Гаване. Кто-то вел ее по сигарной фабрике, и она увидела ящик, похожий на гроб. Внутри лежали огромные сигары, каждая длиной в несколько футов. «Неужели существуют великаны, которые курят такие сигары, или они для жителей других планет?» – спросила она. Вошел какой-то коротышка, гном с горбом впереди и горбом сзади, спросил одну из таких сигар. Минна во сне рассмеялась. Что это за безумие? Она услышала шаги и проснулась.
В комнате было темно, но со двора проникало немного света. На пороге стоял Моррис. Она узнала его по силуэту и по ужасному блеску черных глаз.
– Минна, ты спишь? – спросил он.
– Нет, Моррис, что случилось?
В ту же секунду Минна все вспомнила.
– Ты спрашиваешь у меня?
Минна села. Повисло тягостное молчание.
– Моррис, можешь делать со мной что угодно, только не выгоняй на улицу! – сказала Минна.
Ей показалось, что раньше она уже произносила эти слова или читала в какой-то книге. Они были как-то связаны с молитвой: «Не бросай нас во дни нашей старости».
Моррис ответил не сразу.
– Выгнать тебя на улицу? Я еще никого не выгонял, даже тех, кто этого заслуживает.
– Моррис, я перед тобой согрешила, – сказала Минна, – но сжалься надо мной во дни моей старости.
Моррис не то кашлянул, не то хрюкнул.
– Ты согрешила с ним?
– Да, согрешила, но…
– Ты с ним прелюбодействовала? Если да, то мне не дозволено более жить с тобой под одной крышей.
– Нет, Моррис, не прелюбодействовала.
– А что же ты делала?
– Он меня привлекал. Ты сам твердил, какой он великий человек, гений и бог весть кто еще.
– Ты с ним не спала?
– Нет, Моррис.
– Где же ты провела ночь?
На миг Минна умолкла.
– В гостинице. Я боялась тебя. Вчера ты так кричал, я думала, ты меня убьешь.
– Ты была одна в гостинице или с ним?
– Одна, Моррис, одна.
– Он не совратил тебя?
– Нет.
Минна поразилась, что Моррис говорил как раввин. Вот так раввин обращался к ней в Париже, когда она разводилась с Крымским, – словами из Торы, словами, на которые можно отвечать только «да» или «нет».
Моррис долго молчал. Минна видела в темноте его большие черные глаза. Потом он спросил все в той же благочестивой манере:
– Как же вышло, что я нашел его платок в твоей постели?
– Мы сидели на кровати, и платок, наверно, упал…
– Ты не была с ним?
– Нет.
Моррис Калишер опять надолго замолчал. Даже вроде как хмыкнул.
Потом спросил:
– Ты готова поклясться, что говоришь правду?
– Да, Моррис.
– На Торе?
– Даже на Торе.
– Клясться нельзя, даже о правде, – сказал Моррис. – Согласно закону, мне дозволено жить с тобой, но знай, Бога не обманешь. Ему все ведомо. Сказано ведь: «Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его?» Всевышнему ведомы даже мысли человека. Помни, Минна, мы живем не вечно. Сегодня мы здесь, а уже завтра может настать день расплаты, и Ангела не обманешь.
Голос Минны стал хриплым и приглушенным:
– Я не обманываю, Моррис, я говорю правду!
У Герца Минскера денег не было, а вот на накопительном счете Мирьям Ковальды лежало 480 долларов 53 цента. 480 долларов она сняла.
– Пусть немножко останется на развод, – сказала она Герцу.
В голосе сквозил смех.