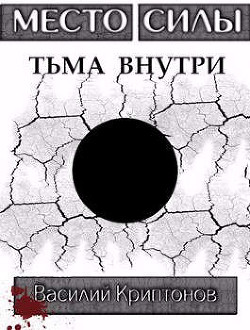class="p1">— От этих картинок, ребята, — сказал я, — кроме вреда, ничего нет. Их делают и потихоньку продают некоторые фотографы-спекулянты, которые обогащаются, обманывая верующих старух.
…За окнами незаметно загустел вечер. Я взглянул на часы; пробеседовал я с ребятами полтора часа. Иначе говоря, два урока. Только и отличия, что никто не тянул руки, если надо было что-нибудь спросить, а я не ставил отметок в журнал. Но, честное слово, проку было больше, чем если б я говорил им на уроке о религии. Разговоры о моем апостоле Петре, распространившиеся по селу, могли обрести ненужный оттенок в ребячьих душах, а теперь — я верил в это — у меня без малого тридцать убежденных сторонников.
Наступил Новый год, а с ним и зимние каникулы.
— Я со своим классом еду на экскурсию в Саранск! — объявила мне жена. — Колю забираю с собой. Ухаживать за тобой есть кому. Тоня делает это лучше меня. К тому же, ты давно собираешься писать ее портрет. Вот уедем — и начинай!
Решение жены озадачило меня. Конечно, она сама изъявила желание везти ребят. Разве бы кто-то стал настаивать, ведь все знают о моей болезни?
«Наверно, надоел я моей благоверной со своей болезнью?» — размышлял я. Не скрою, это не мешало мне втайне радоваться. Может, и в самом деле начну я портрет, который столько времени ношу в душе? Может, удастся продолжить и «Вечерний бой», заброшенный мной с самой осени?
Мы с Клавой уважали друг друга. Наверное, даже слишком. Наверное, наши отношения давно регулировались одной только рассудочностью — ни особой любви, ни ревности.
Клава — психолог. Она куда лучше меня разбирается в людях. По крайней мере, стяжатель Чуклаев никогда для нее не представлял загадки. Уже на второй или третий день, после того как мы поселились в своем домике рядом с чуклаевской усадьбой, она, увидев Петра Лукича и перекинувшись с ним парой фраз, бросила о нем решенное бесповоротно:
— Паук!
Конечно же, Тонина привязанность ко мне и мое расположение к этой несчастной женщине не составляли секрета для моей проницательной жены. Но зачем ей запускать болезнь внутрь? Чтобы она сознательно пошла на это, надо было допустить, что я совершенно стал безразличен ей. А вдруг — и тут меня впервые кольнула ревность — ей приглянулся кто-то в Саранске и экскурсия для ребят — лишь удобный предлог?
Правда, я тут же устыдился своего подозрения. Нет, нет и еще раз нет. Наоборот, это она решила проверить себя и меня. Видя, что даже болезнь не помешала мне тщательно следить за собой, быть подтянутым и собранным, она отнесла это за счет присутствия Тони. И решила дать мне возможность побыть с Тоней без посторонних глаз. Если это глубокое чувство, она оставит нас навсегда. Не случайно же она последнее время затевала разговор о том, что главное — верность друг другу и полная откровенность. «Если мне понравится кто-то, — все смеялась она, — я сразу же заявлю тебе об этом и перетащу свою кровать в другую комнату». — «На кухню?» — включался я в игру, не подозревая, что она не свое, а мое несмелое чувство имела в виду. — «Для меня, Ваня, больше собственного счастья важно твое счастье! Если ты несчастлив, я виню в этом прежде всего себя». — «О чем это ты?» — «Все о том же. Я же вижу, как ты привязался к Коляну, совершенно чужому тебе ребенку. Тебе хочется иметь своего сына, а я не могу тебе его дать. И не пишешь ты ничего тоже, видно, поэтому. А талант у тебя есть, я верю…»
Но если это так, значит, Клава поставила на карту не только судьбу нашей семьи.
«Нет, — решил я, — портрет портретом, а жизнь жизнью. Мы прожили с Клавой уже столько лет. Неужели же мы можем вот так просто расстаться? Тоня слишком молода для меня. Может быть, я и буду счастлив в любви к ней, но поймет ли она мою душу, как понимала Клава? Не свяжет ли она мелочностью, хозяйской расчетливостью и попреками за житейскую неприспособленность мою свободу?»
Рассуждая так, я все-таки ждал, ждал, когда в назначенный день Клава забежит из школы за сумочкой с деньгами и документами да небольшим саквояжем, приготовленными к поездке.
И когда Клава, прижавшись ко мне нахолодавшей щекой, взялась за саквояж, я понял, что мои догадки были верными. Она решила бросить свою судьбу в наши руки.
Мучительной была первая ночь без Клавы в опустевшем доме. Всю ночь я ворочался в постели, забываясь на минуту и снова тараща глаза в потолок, щелкал выключателем торшера, брался за книгу, кляня себя за легкомыслие, вслушивался — не донесутся ли какие звуки из Тониной боковушки.
А утром, разбитый, усталый, встал и, не дожидаясь Тони, приготовил завтрак.
Тоня вышла к столу рассерженная.
— Ну зачем вы так, Иван Аркадьевич! Вы же не окрепли еще как следует. Лучше бы лишний часок в саду погуляли…
— Ничего, ничего, Тоня, — только и нашелся сказать я. — Сколько можно болеть? Сегодня начинаем работать над твоим портретом. Только, пожалуйста, переоденься, В то платье, помнишь, которое в голубой горошек?
«То платье…»
Память мгновенно вернула меня к минутам безшабашного счастливого забытья, когда я целовал Тоню.
«Что думает она о тех минутах? Помнит ли? Молча прощает мне мою мужскую несдержанность или видит за ней больше и таит обиду за неопределенность своего положения?»
Я долго возился с мольбертом, с красками, тщательно промывал и вытирал кисти, подвязывал шторы, чтоб не заслоняли ровного утреннего света. «Каким он будет, этот день? Смогу ли я решить для себя — кто мне эта молодая, красивая женщина? Порыв сердца, которому пропахшие порохом, потом и кровью военные годы помешали испытать радость первого юношеского чувства?
Что же тогда для меня супружеский дом? Верность?»
Словно чувствуя мои сомнения, мучительные раздумья, Тоня вошла и отрешенно присела на краешек стула. Лицо ее было тускло, глаза не излучали света.
«Нет, с таким настроением я не смогу ее писать. Может, пока заняться наброском — выписать платье, фон, сделать контур головы? Первый сеанс, он и есть первый…»
Но кисть совсем не подчинялась мне. Мазки на холст ложились вяло, грубо, словно я пытался изобразить на полотне не милое застенчивое лицо молодой женщины, испытавшей смущение от пристального мужского взгляда, а грубый стол со смятой, давно не стиранной скатертью.
Я не выдержал этой борьбы с