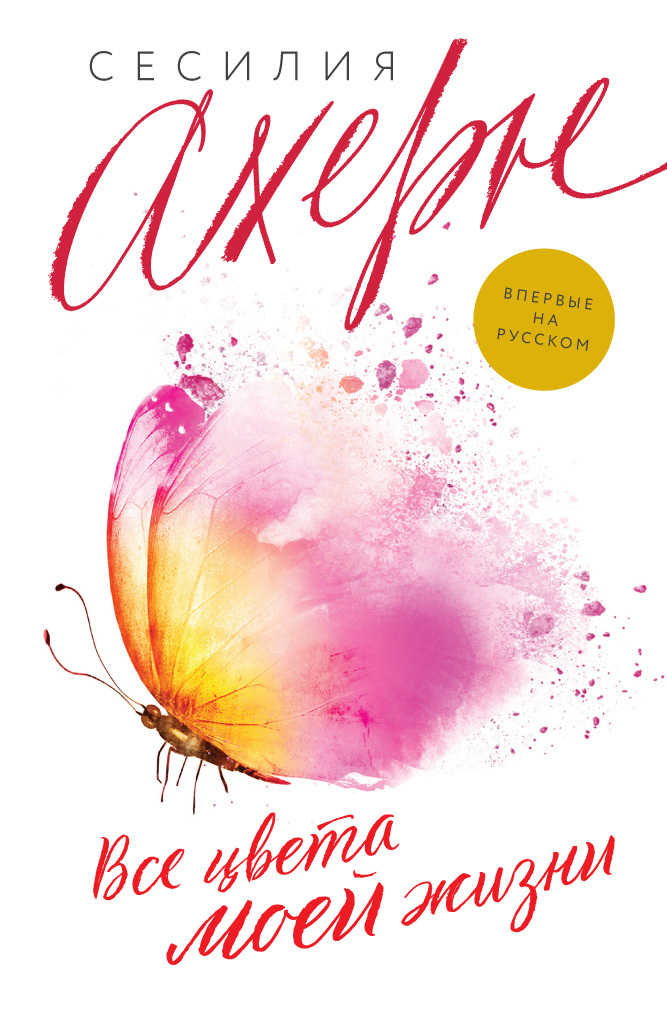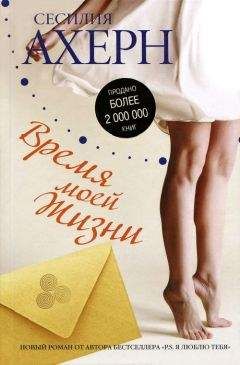мне там делать?
– Ничего тебе не делать. Они мне платят.
– Но я не могу ничего не делать.
– Делай то же самое, что летом. Работай в кафе или еще где-нибудь, какая разница. Когда я стану настоящей звездой футбола, зарабатывать буду столько, что нам обоим хватит.
Мы смеемся над этой фантазией.
Он моргает, дергается, закидывает голову назад и всхрапывает.
– Мысль хорошая, Госпел, вот только, думаю, принимающая семья не разрешит мне жить с тобой, и потом, нужно еще получить аттестат. Хью с ума сойдет, если я останусь без него. Образование – единственный путь вперед, – говорю я, подражая брату.
– Только не для футболиста.
– Думаешь, у меня есть шанс в футболе? – улыбаюсь я.
Он снова дергается и моргает. Он расстроен, взволнован, в последнее время чаще выходит из себя. Он нервничает. Он отбрасывает голову назад три раза подряд.
Он громко ругается, досадует на самого себя, потом орет. Но не на меня, а на себя, вернее, на то в своем теле и уме, что не может проконтролировать. Красные пузыри лопаются вокруг него, как пакеты из-под краски, окружают его красной дымкой. Я даю ему время успокоиться, а дымке – испариться.
– Вот что я буду делать, если такое случится в клубе? – спрашивает он, охрипнув от крика.
– Не случится. На поле это никогда не случается.
– А не на поле? – моргает, моргает, дергается, рычит. – Вдруг в раздевалке, когда тренер будет нас мотивировать, я не сумею остановиться… Вот что тогда будет, как думаешь?
Вокруг груди у него слишком много оранжевого.
Я старалась не прикасаться к нему, когда он такой – и из-за себя, и из-за него. Я чувствовала, что ему не хотелось никого видеть рядом, когда он сильно расстроен или взвинчен, – так льву в клетке совсем не хочется, чтобы его гладили. Бледно-оранжевый цвет низкой самооценки, его низкое мнение о собственной ценности, дискомфорт, представление о себе самом вызывают красный туман ярости; у него все это идет рука об руку. В школе он много работал, учился обуздывать свою ярость, глубоко дышать, медленно вдыхать, задерживать дыхание и выпускать его, ходить на пробежки, наматывать круги на поле или заниматься йогой. Но все это недоступно или невозможно, когда ведешь нормальную жизнь: нельзя ведь ни с того ни с сего выскочить из комнаты и кинуться бежать по дороге, нельзя прервать неудобный для тебя разговор или горячий спор и начать глубоко вдыхать и выдыхать. Иногда то, чему учили нас, не может подготовить к жизни, но сама живая жизнь, сам поиск себя в этих неудобных ситуациях дадут нам наш собственный арсенал. Ему предстоит найти все это в других условиях, среди тех, кто равен ему, среди его героев. У меня болит за него душа, я боюсь за него. На сколько его там хватит, как с ним будут обходиться? Поймут ли, что его таланты на поле значительно перевешивают его судороги и вокальные тики вне поля?
Я снимаю перчатки и кладу руку ему на грудь. Она проходит через бледно-оранжевый, но я не убираю ее. Я чувствую, что он борется с собой; я тоже подключаюсь к управлению конфликтом.
– Что ты делаешь?
– Это всегда вот здесь, – говорю я, стараясь не замечать его чувств, которые передаются мне. Первый раз я говорю ему об этом. Раньше мы говорили о его цветах, но только о цветах дискомфорта, и мне неизвестно, знает ли он, чем они отличаются. Оранжевый всегда приклеивается к нему именно здесь, как будто ловит за грудь и вызывает тики, моргание, рык. Я помогаю ему опуститься на пол, и мы садимся друг напротив друга.
Я вдвигаю руки в оранжевый цвет и описываю ими круги. Сейчас я совсем не боюсь, что цвет пристанет ко мне. Я хочу отвести оранжевый от него. Он вместе со мной движется из стороны в сторону, но гуще, чем кажется. Тягучий, как слизь, но и твердый, как будто его нужно ломать. Я кладу руки Госпелу на грудь. Неудивительно, что он еле переводит дух. Цвет душит его.
– Почему он здесь? – спрашиваю я. – Вот именно в этом месте…
– Не знаю я.
– Я читала о травме, – говорю я и сглатываю, потому что не знаю, как он к этому отнесется. – Опыт переживания травмы сохраняется в нашем подсознании, как эхо. Он сидит в нашем энергетическом поле и мешает естественному потоку энергии. Я думаю, это эхо. Это не связано с тем, что происходит сейчас. Это вообще не связано с настоящим моментом.
Он пробует подвинуться, ему неудобен этот разговор. Я удерживаю его.
– Это все здесь, вокруг, – говорю я и делаю руками круги в цвете. Я его не чувствую, но от моих движений он перемещается, как густая жирная масса.
Чем больше внимания я уделяю оранжевому, тем больше он разрастается. Госпел моргает, дергается, всхрапывает.
– Что тебе врачи в школе советовали? – спрашиваю я.
– Дышать. Смотреть на вещи в комнате. Сначала на пять, потом на четыре, потом на три.
– Забудь. Скажи «отвали», вот и все, – советую я.
Он начинает хохотать.
– Отвали! – кричу я оранжевому на его груди.
– Отвали! – подхватывает он.
И мы кричим снова и снова, громче и громче, отгоняя все, что нас беспокоит.
Я закрываю глаза. Сколько во мне любви к нему! Я не хочу, чтобы он уезжал, но хочу, чтобы у него все сбылось. Я не хочу, чтобы его, эту прекрасную, добрую душу, травили в раздевалке какие-то дураки. Я не хочу, чтобы он волновался хотя бы один день. Я хочу, чтобы у него была та идеальная жизнь, которую он заслуживает, чтобы сбылись все его желания. Если кто-то и заслуживает этого, так он. Я хочу отогнать от него все плохое, сделать так, чтобы мир стал для него легче. Я хочу этого, я хочу этого, я очень этого хочу.
– Элис! – вдруг говорит он, и я открываю глаза.
– Что такое?
Дыхание у него успокоилось. Оранжевого на груди больше нет.
Но у меня горят руки.
Я встаю и выбегаю из комнаты, несусь через кухню, где его мама и папа бросили читать воскресные газеты и прислушиваются к нам.
– Что там творится? – спрашивает его отец.
– Ничего страшного, спорят, – отвечает мать.
Я бегу в сад. Госпел летит за мной. Руки горят, как будто на каждой из них пылает по факелу. Я падаю на колени, зарываюсь руками в землю около розового куста, глубоко-глубоко, пока пламя не гаснет.
Я без сил валюсь на траву. Он опускается рядом, и мы смотрим в небо.
– Цвет попал мне