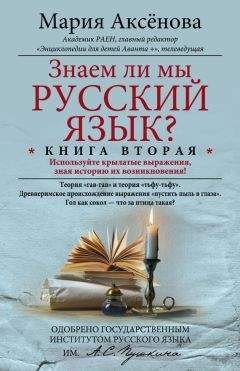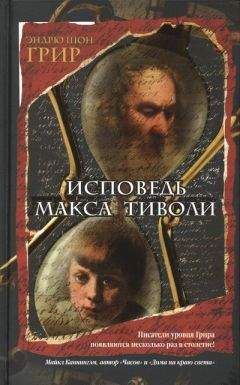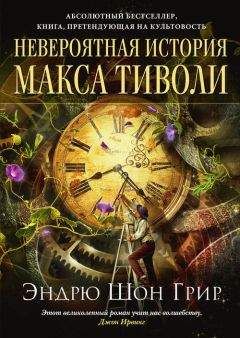мне сказать. Неужели все было наоборот, как в комнате смеха? Страх на твоем лице, когда ты шагнул в тот круг света и увидел меня рядом с Баззом Драмером, с реликтом, возможно, остывшей любви. Осторожную речь, которую ты приготовил перед тем, как завыли сирены воздушной тревоги. Тот вечер в «Роуз боул», когда ты танцевал со мной так, словно хотел охмурить. И взгляд вчера в холле, спокойный взгляд мужчины, который принял решение. Может быть, я все же не понимала тебя. Чего ты хотел? Сказал ли ты мне об этом хоть раз?
Я не боролась за тебя с Баззом. Я не знала как и в конце концов отказалась даже от мысли. И все же утром, неподвижно лежа в постели, я подумала – глупо, безумно: а вдруг ты не ушел? Безрассудная мысль. Будто, Холланд, после всего ты мог остаться. Человека не судят по его словам. Его судят по делам. Над чем я плакала тем утром? Свет был прекрасен, передо мной лежало богатство и новая жизнь, на кухне смеялся сын. Над фантазией, над глупой фантазией: что, даже когда прозвенел последний звонок, ты все-таки за меня боролся. Плакала, чтобы раз и навсегда понять, что нет.
Я взяла себя в руки. Мысленно закрыла дверь, ведущую в тот одинокий холл. Я открою ее позже, когда буду одна. Но в то утро мне надо было заниматься ребенком, объяснять ему все и начинать жить. Я привела комнату в порядок после Лайла, который прибежал и обнюхал все, что осталось от любовников: подушку, стол, полотенце. Я моргала, глядя на окутанное туманом солнце и на бестолковые вишни на обочине, которые всегда цветут невовремя. Окно припаркованной машины с включенным двигателем и горящими рубином огнями опустилось, открыв глядящую на меня брюнетку. Через секунду ее уже не было. Я услышала, что Сыночек на кухне просит молока. Начала прибирать комнату, взяла полотенце и стакан.
Я прошла по коридору в кухню. Когда завернула за угол, увидела, что на меня радостно смотрит сын.
– Привет, мам. Лайл не вылезает.
Я на секунду замерла.
– Солнышко?
Он держал в руке стакан молока.
– Сюда, Лайл! Он не выходит, мам. Он под столом.
– Солнышко, где ты это взял?
Он сказал, что папа дал.
– В каком смысле?
Сын озадаченно на меня посмотрел и отвернулся. Следя за его взглядом, я заглянула в комнату, и мое сердце остановилось. Кубик сахара. Ибо там, над его утренней кофейной чашкой, побитой и треснутой, я увидела осторожную улыбку на лице мужа.
* * *
Говорят, существует множество миров для множества наших решений. В одном из них мой муж вышел из нашего дома в темноту, сел в ту машину и был навсегда увезен из прежней жизни. И поехал через всю страну в «деСото», с каждым новым горизонтом понемногу забывая то, что оставил позади, понемногу прощая мне то, что я взяла взамен. В том мире он снял квартиру в Нью-Йорке и жил в ней с любовником, глядя на город, словно на спущенную вниз люстру, зимой они стучали по паровым трубам, добиваясь тепла, а летом открывали окна, чтобы подышать. Они ссорились, мирились и всю жизнь любили друг друга. Письма сыну, приезды в гости, звонки и фотографии по почте. В нем Перли Кук вырастила сына на пятистах акрах, к северу от Сан-Франциско, отправила его в Гарвард и поплыла на корабле во все те места, о которых читала в книгах. В нем это история Базза, история его любви, развернувшаяся где-то там.
Но я знаю только этот мир. В нем я жила в своем доме, с сыном, мужем и долгами. В этом мире однажды ночью к нам приехал мужчина и подрался с моим мужем – по-настоящему, на кулаках, – и на этот раз нос сломали мужу, на полотенце была его кровь, и потом этот мужчина уехал и больше не вернулся. В этом мире в ту летнюю ночь мой муж дрался и выстоял. И остался не из страха, упрямства или от растерянности, а ради единственной страсти, вопреки всему. Это моя история. В которой он остался ради меня. Что можно понять о любви?
* * *
Все важные моменты моей жизни прошли в том заплетенном лозами доме. Всего год спустя в той гостиной жужжащее радио сообщило нам о десегрегации Юга, о том, что чернокожие бойкотируют автобусы в Монтгомери, что люди повсюду проводят марши, потому что сыты по горло. Новости слетали с его уст в форме лиры, словно с губ оракула. Оно рассказало о том, как сенатор Маккарти был унижен перед военным Подкомитетом, а позже – о его смерти. Мир вокруг нас менялся, и здесь, на берегу океана, мы чувствовали это, как чувствует движение кнута самый его кончик. В том коридоре я открыла письмо и узнала, что мой сын получил стипендию для учебы в колледже, в далеком Нью-Йорке. Там же я обняла его на прощание, а потом упала на грудь мужу и заплакала. А после его выпуска за этим кухонным столом я вынула армейскую повестку Сыночка из казенного конверта. Я держала ее в руках и дивилась тому, как все идет по кругу. Мальчики не хотят умирать, матери не хотят их терять. Я взяла ржавую кнопку и приколола повестку к стене, а потом позвала сына и сказала ему, что делать.
Это история о мужчинах, не идущих на войну, история о других битвах. Сыночек не пошел на войну, но он сражался. Он сражался в университете, яростно, он пытался перекричать войну, пытался сжечь ее. Когда взорвалась бомба, обвинили его группу, хотя я не верю, что он имел к этому отношение, его «группировка» была не более чем компанией ребят, убежденных, что все это должно рухнуть, а один или двое из них зашли слишком далеко. Он убежал в Канаду и долго там жил, пока Картер не позвал