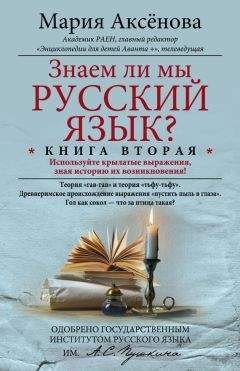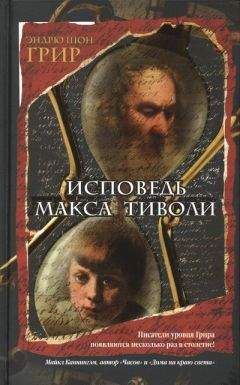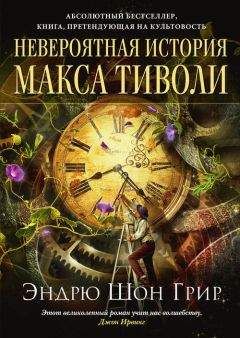сможет, было ребячеством, по-детски жестоким. Вот что я увидела в его глазах: взгляд мужчины, вынужденного наконец попрощаться с возможностями юности. Понять, чего хочет сердце. По взгляду, полному боли, я поняла, что он искренне горюет.
Каково живется мужчинам? Даже сейчас я не могу сказать. Они должны держать на плечах мир и не показывать усталости. Непрестанно притворяться: сильным, мудрым, добрым, верным. Но никто на самом деле не силен, не мудр, не добр и не верен. Получается, что каждый притворяется таковым, как может.
Граучо закончился, аплодисменты потонули в белом шуме. Холланд потянулся выключить радио.
– Наверное, пора ложиться, – прошептал он.
– Видимо, так.
– Я жутко устал. Правда, – сказал он и повернулся ко мне: – Перли?
– Что такое?
Он долго смотрел мне в глаза, ничего не говоря, – он не умел говорить такие слова, – но по его лицу я поняла, что он имел в виду. То, что мы никогда не обсуждали, то, что он, возможно, хотел сказать во время воздушной тревоги и упустил шанс, и вот наступил самый последний шанс, другого не будет: «Скажи мне, этого ли ты хочешь».
Мне еще не было тридцати. И вот что, как мне казалось, было хуже всего: что больше никто не будет знать меня молодой. Для любого мужчины, которого встречу, я всегда буду как сейчас или старше. Никто не будет сидеть и вспоминать, какая я была юная и хрупкая в восемнадцать, когда сидела у его постели и читала ему в темноте, а внизу звучало пианино, и потом, в двадцать один, как я придерживала на ветру лацкан пальто и придержала язык, когда красивый мужчина назвал меня чужим именем. Мне будет не хватать – и я поняла это только тогда, под взглядом его карих глаз, – того, что неизменно, незаменимо. Я не встречу другого мужчину, который знал бы мою мать, помнил бы ее неукротимые волосы, резкий кентуккский акцент, надтреснутый от гнева голос. Она уже мертва, и никакой мужчина не сможет с ней познакомиться. Этого будет не хватать. Я никогда и нигде не встречу того, кто видел, как я рыдаю от злости и недосыпа в первые месяцы после рождения Сыночка, кто видел его первые шаги или слушал его бессмысленную болтовню. Он уже мальчик. Никто уже не узнает его младенцем. Этого тоже не будет. Я не просто останусь одна в настоящем – я останусь одна и в прошлом, в моих воспоминаниях. Потому что они были частью его, Холланда, моего мужа. И через час эту часть меня отрубят, как хвост. Отныне я буду словно путешественник из дальних земель, где никто не был и о которых никто не слышал, иммигрант из исчезнувшей страны – моей юности.
Нет, Холланд, я этого не хотела. Уже поздно спрашивать, если ты сейчас делаешь именно это. Я не скажу. Хотела я тебя, но не того, каким всегда тебя знала. Не мальчика в комнате, нет, не солдата на пляже, забывшего мое имя. На этом не проживешь. Когда пришло наводнение и стерло все с лица земли, недостаточно восстановить все как было. Тебя – как ты был. Девушкой я жила в твоей жизни, как женщина в пустом доме, где, по слухам, в стенах замуровано сокровище. Мне довольно было и мечтать о нем, но, когда стены рухнули, когда комнаты засыпало штукатуркой, я не смогла там больше жить. Я не то чтобы жалела, что когда-то рискнула, – для чего еще нужна жизнь? – но я не хотела быть мечтательницей, хранительницей, укрытием. Мир будет меняться, я это чувствовала. Я еще молода. Я буду меняться вместе с ним.
Я не ответила. Вместо этого помыла бокалы, убрала бурбон. Пошла в спальню и тут повернулась и сказала: «Прощай».
Он посмотрел на меня так, словно услышал что-то другое. Я никогда не узнаю, что ему послышалось, не узнаю, потому что он уже умер, а я-то всего лишь хотела сказать: «Спокойной ночи», но в тот момент показалось, что еще минута невысказанности будет для наших жизней лишней. Казалось, что мы сейчас сможем высказать все, о чем не говорили. Что он встанет и скажет: «Сегодня я сбегу с любовником», а я сложу руки на груди и скажу: «Завтра я попробую жить одна», и мы уставимся друг на друга, выбеленные светом из коридора, и казалось возможным, что мы друг друга ударим, что примемся рыдать и бить друг друга за то, что наделали, что брали без спроса – завтраки в молчании, ужины с улыбками, бессчетные часы наших жизней, – не больше и не меньше, чем брак.
Но Холланд не заговорил. Он полез за спичками в нагрудный карман, а затем посмотрел на меня со странным выражением лица. Глаза расширились, а края рта опустились, словно его забыли под дождем, и вопреки всему мне вдруг захотелось подбежать к нему и утешить.
Слышал ли он, что я сказала? Я уже не узнаю. Он просто тихо ответил: «Спокойной ночи», улыбнулся и ушел к себе.
Дверь со щелчком закрылась, я услышала звук замка. Я ушла в свою комнату, пропахшую пролитыми духами, и смотрела, как Лайл лежит на своей овечьей шкуре. Все огни в доме были погашены. И наступила тишина.
В десять пятнадцать я приняла таблетку, она срубила меня, как топор.
* * *
Однажды в моем детстве Грин-ривер затопила наш город. На здании суда есть метка с гравировкой «1935», она отмечает уровень воды, поднявшейся выше роста взрослого мужчины. Я помню, что вершины яблонь поднимались из воды, как зеленые острова, а ветки клонились от плавучих плодов. Помню, как напугались родители. Мы сидели в темноте, а мимо неслась вода. А я была маленькая. Я не знала, что это когда-нибудь кончится. Думала – наверное, мы теперь так и будем жить. Вот что мне приснилось под действием той таблетки. Я была в нашем старом доме, с родителями, а вода прибывала и билась о крыльцо, зеленые яблоки проплывали мимо,